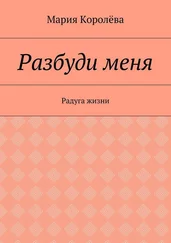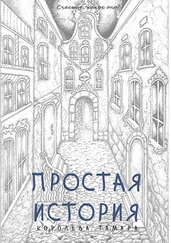Конечно, я был счастлив, что у нас впереди два дня, точнее, две ночи — так она сказала (все-таки днем она должна была уходить на свою работу). Но теперь-то я могу признаться: я ужасно беспокоился. Я вдруг стал бояться, что вся эта история всплывет, обнаружится, станет явной — а я не знал, что с этим делать. Пока, говорил я себе, пока не знал. Поэтому первое, о чем я спросил ее, — как это вышло.
— Так как же ты вырвалась ко мне, скажи?
— Послушай, — засмеялась она совсем по-девчоночьи, — не все ли тебе равно как? Ну, вырвалась и вырвалась. Говорю же тебе, всё нормально. Никто не узнает.
— Нет, ты скажи, — настаивал я.
Беспокойство поднималось во мне волной. Все-таки она была совсем неопытной, открытой, а главное, очень прямой, хотя иногда мне казалось, что я вообще ничего о ней не знаю.
— Ну пожалуйста, скажу, если тебе так хочется. Твой брат, — тут я, кажется, вздрогнул, — ну, в смысле… он уехал на конференцию, на три дня. Я сказала, что буду в это время у родителей.
— Но родителям можно позвонить! То есть он же может туда позвонить.
— Они скажут, что я у подруги.
— Но ведь и подруге…
Тут она зажала мне рот ладонью. И снова засмеялась.
— Да что же это такое! Я с тобой, слышишь, с тобой, сейчас! А мы говорим о какой-то ерунде.
И я немедленно поддался этому ее настроению, мне тоже стало казаться, что ничего такого в этом нет, главное — она у меня, она моя на две эти ночи. Я повторил себе то, что повторял в последнее время постоянно: в конце концов, кому от этого плохо — от того, что нам с ней так хорошо сейчас? И добавлял — втайне даже от самого себя: все равно никто не узнает. И понимал, что так не бывает.
Мы стояли с ней, обнявшись, у моего большого окна, закат отпылал свое, зажигались первые огни вдоль набережной. Их было немного, город тогда пытался экономить электричество, никаких иллюминаций, о нет. Еще немного, и улицы вообще потонут во тьме. Она была в моей рубашке на голое тело, босиком, а я и рубашку натягивать не стал, было лень. Мы не зажигали свет. Смотрели на проплывающий теплоход. Казалось, нас покачивает, как будто мы там, на палубе.
— Помнишь, ты говорил — поддаться, чтобы избавиться от искушения, — вдруг сказала она.
— Ну да. И?
— И не получается! — она тихонько засмеялась. — Вот я поддалась, а искушение не поддается. А у тебя как?
— Да у меня тоже пока не очень-то получается, — честно признался я.
— Жалеешь? — прищурилась она.
Вместо ответа я только крепче обнял ее и поцеловал сзади в шею, там, где была нежная ямочка.
Нет, я не жалел, конечно, я не жалел! Это было то, о чем я молил, мечтал, то, чего я уже и не ждал. Меня даже пугало иногда, как неотступно я о ней думаю. Я не прерывался даже на сон — то есть и во сне я продолжал о ней думать, представлять ее, все сны были только о ней или с ней. Остальное — то, что было не она, — или отдалилось, или исчезло вовсе. Наверное, так чувствует себя плод в материнской утробе: только он и она, которая и есть для него весь мир, вся вселенная.
Но постепенно, очень постепенно, не сразу, через эту защитную оболочку до меня стали долетать — нет, не звуки — сначала беспокойства, смутные, без очертаний, а потом и настоящие страхи, и у этих страхов были лица. Самым большим из них был брат: что, если он узнает? То, чему сначала я не придал никакого значения, надвигалось на меня, как поезд на платформе, стоило мне остаться одному, без нее. Что я скажу ему? Как отвечу на его вопрос? Что буду делать, если он просто даст мне в морду? Драться я не умел. То, что он, кажется, не умел тоже, не очень-то меня успокаивало.
Она… Я посмотрел на нее украдкой (мы все еще стояли перед окном, я обнимал ее). Пройдет месяц-другой, и она все увидит, все поймет. Увидит, кто перед ней, поймет, как ошибалась. Что я скажу ей?
— Какая ты красивая, родной мой, какая красивая… Как солнце.
— Ты говоришь ерунду, — засмеялась она, запрокинув голову.
Надо же, ей было весело.
— И еще — ты взлетишь, — неожиданно сказал я.
— В каком смысле? Ты хочешь, чтобы я упорхнула в окно? Так вот они, твои мечты.
— Это ты говоришь ерунду. При чем тут окно? Ты взлетишь, вот увидишь, ты будешь высоко, о тебе узнают, тебя будут узнавать. Я это вижу… Ну хорошо, смейся, смейся, я люблю, когда ты смеешься. Хулиганка несчастная. И не лезь ко мне целоваться, если не веришь!
Я и сам уже смеялся вместе с ней. В этот момент никаких страхов не было, я просто любил ее, вот и всё.
— А хочешь, я расскажу тебе про «Верещагина»?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу