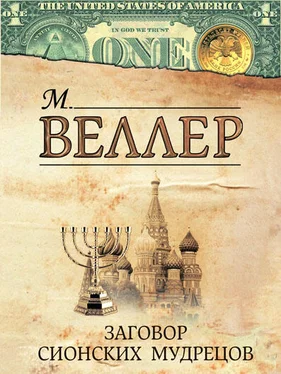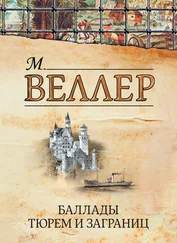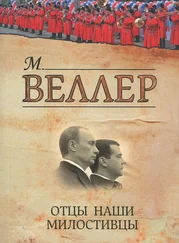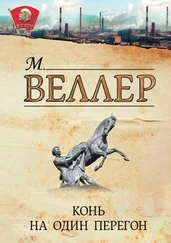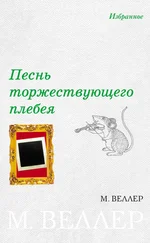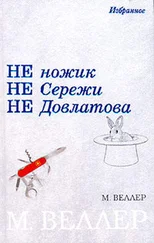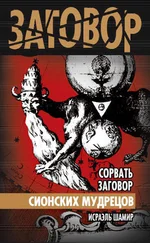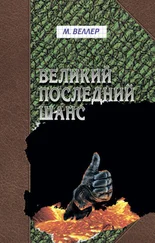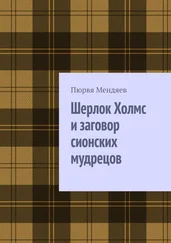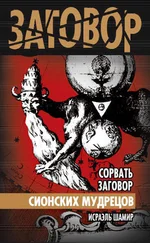С бессмысленной целеустремленностью шагал он по проходам и «улицам», слыша русскую речь, и теперь ясно различал привычную озабоченность лиц, привычные польские и чехословацкие портфели, привычные финские и немецкие костюмы, привычные ввозимые моряками дешевые модели «Опеля» и «Форда».
Эйфелева башня никак не тянула на триста метров. Она была, пожалуй, не выше телевышки в их городке — метров сто сорок от силы. И на основании стальной ее лапы Кореньков увидел клеймо Запорожского сталепрокатного завода.
Он побрел прочь, прочь, прочь!.. И остановился, уткнувшись в преграду, уходившую вдаль налево и направо, насколько хватало глаз.
Это был гигантский театральный задник, натянутый на каркас крашеный холст.
Дома и улочки были изображены на холсте, черепичные крыши, кроны каштанов.
Он аккуратно открыл до отказа регулятор зажигалки и повел вдоль лживого пейзажа бесконечную волну плавно взлетающего белого пламени.
Не было никакого Парижа на свете.
Не было никогда и нет.
Топонимика и эзотерика
Название «Переделкино» при простейшем морфологическом анализе слова расчленяется на приставку «пере», корень «дел», суффиксы «к» и «ин» и окончание «о». Таким образом, на первый взгляд его можно счесть образованием от существительного «дело». Однако и приставка «пере», и само существительное «дело» несут семантическую нагрузку действия; сам корень «дел» как формообразующее начало первичен не в существительном, а в исходном глаголе «делать» — существительное «дело», несмотря на краткость флексии, является отглагольным образованием. (Ср. «бить — било», «рыть — рыло», «орать — орало», «мыть — мыло», «шить — шило» и т. д. Т. е. «деть/деять/ — дело». Видно, что, строго говоря, в этих случаях «л» является формообразующей флексией отглагольного существительного. Исходным корнем выступает «де». «Деять», «действовать».
«Деяние», «деятельность». Исходная пара «деять — дело» заменилась со временем на «делать — дело» в процессе палатализации и замены юсов на «в» или «л».)
Ближайшей же исходной формой со всей очевидностью выступает глагол «переделать». Приставка «пере» несет функцию совершенного вида — завершенности действия. И одновременно — его изменения.
Если в традиционной лингвистической парадигме глагол «делать» выражает общее креативное начало и указывает на действие, то при углубленном анализе, в объеме этнической культурной парадигмы «делать» выступает основой сакраментальной русской идиомы «Что делать?» и наполняется философским содержанием. Что делать? Переделывать.
Приставка «пере» кладет на существительное стилистический оттенок революционного пере-образования. Переделатъ, пере-оборудовать, пере-вернуть, пере-строить, пере-иначить. Иначе. Делать не так, как раньше.
Нельзя обойти вниманием еще одно, официально табуированное, значение глагола «делать», свойственное советской эпохе. Это совершать половой акт в качестве активной стороны, тем самым понуждая противную сторону своей воле. «Переделать» приобретает значение всеобщего охвата вышеупомянутым глаголом. Т. е. «делать/сделать» многих, всех.
В том же смысловом контексте существительное «делка» означало «дефлорированная девушка», «не девственница» (в противоположность существительному «целка»). «Переделкино», как мы видим, указывает как на упомянутый процесс, так и на место осуществления этого процесса, причем близкого к завершенному/совершенному виду.
Тогда становится понятным, почему советские органы остановились именно на этом названии для писательской резервации. До эпохи тотального телевидения именно писатель занимал в социопсихологическом пространстве страны место, принадлежащее сегодня телеведущему. Сублимированный сексуальный акт проводился в середине XX века не с телеэкрана, но с книжных страниц. На писателей возлагалась обязанность таким образом формировать (делать, высекать, чеканить, выколачивать, прессовать, долбить, обрабатывать, барабанить, трахать) новую человеческую общность — советский народ.
Занятие это трудное; в трудах человек старится быстро. На физиологические и геронтологические процессы и возрастные изменения указывает разговорная форма названия, где предударный гласный в соответствии с законами фонетики редуцируется и со временем вовсе исчезает из произношения: «Перделкино».
Стилистически несколько пренебрежительная и эмоционально ослабленная форма просторечия «Перделкино» при семантическом анализе легко вскрывается как указание на тщету трудов и дней, что является прямым отсылом к античной литературе (Гесиод, «Труды и дни») и Ветхому Завету (Экклезиаст, «суета сует и всяческая суета…») — этим колыбелям всей современной литературы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу