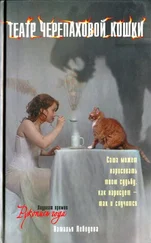– Где ты была?
– На реку ходила. Просто прогулялась, в воду зашла по колено. Как же хорошо! Такая прохладная вода... Всё уносит: печаль, тревогу, тоску – всё. Всю меня. Как будто я стою у берега, как пустая стрекозиная оболочка: сухая, прозрачная – и держусь за этот берег только самыми необходимыми крючочками... Знаешь, эти оболочки такие шершавые – долго-долго висят на листьях, когда стрекозы там и нет уже никакой... И я зацепилась, а сама я, главная, настоящая, плыву по реке к мосту. А там вооружённая охрана, и выстрелы... Сердце щемит, потому что я плыву и думаю, что сейчас услышу выстрел и что он почти наверняка меня настигнет. И вот в этом напряжённом ожидании смерти – жизнь. Такая волнующая жизнь.
Лера откусила бутерброд и отпила чая из чашки, которую Валерик приготовил для себя. Она выглядела совершенно спокойной, как немного уставший человек, который пьет у себя дома чай после долгого трудного дня, но Валерик вдруг подумал, что там, под напускным спокойствием, бушует неослабевающая истерика. Теперь он мог видеть её в уголках Лериных глаз, в том, как напряжённо она поджимала губы, сделав глоток, как едва заметно морщила лоб.
Валерик устало опустился на стул и тихо-тихо сказал:
– Лера, ты больная. Ты совсем больная. У тебя, кажется, тяжёлый невроз, и ты должна это признать. Лера, это поправимо. Тебе надо отдыхать. Много-много спать и отдыхать. Лера, я готов тебе помочь. Я никуда завтра не поеду. Я останусь тут и буду сидеть с ребёнком. И буду готовить, стирать, убирать... Буду ждать, пока ты не придёшь в норму.
– Ради меня?
– Ради ребёнка.
Лера задумалась, откусила от бутерброда ещё раз.
– А разрешишь мне спать на втором этаже?
Это было сказано с детским истерическим вызовом. Как будто она ждала от Валерика отказа, чтобы дать истерике вырваться наружу.
Валерик стиснул зубы:
– Конечно, – ответил он. – Всё равно ночью я не смогу присматривать за ним, если буду спать так далеко. Конечно, спи там. А я лягу на твоё место.
Говорить так было трудно. Вместо ровной постели, на которой так приятно ныла, расправляясь, спина, вместо звёздного неба и сосновых лап в окне, его снова ждали детские хныки, кефир и сон вполглаза. Но отступать было поздно.
– Спасибо, – вдруг сказала Лера.
Даня спал спокойно и крепко – Валерик никогда прежде не видел, чтобы он так спал. Валерик перенёс его в кроватку, едва удерживая на руках: малыш норовил стечь вниз, словно был вылеплен из свежего теста. Он не открыл глаз, не пошевелился и потом почти всю ночь спал в той же позе, в которой Валерик его оставил.
А Лера смотрела какое-то кино и пила чай. Рядом с ней росла гора конфетных фантиков.
Всё это – и то, как вдруг успокоился Даня, и то, что Лера, казалось, приняла его условия и решила отдохнуть – казалось Валерику хорошим знаком. Он вдруг поверил, что всё ещё может сложиться нормально.
Лера поймала его, когда он переносил со второго этажа на первый своё постельное бельё.
– Постой со мной на крыльце, – попросила она почти смущённо.
– Конечно, – кивнул Валерик. – Конечно.
Он сбросил на стул простыни и вышел вслед за Лерой в тёмную освежающую ночь.
Лера уселась на перила крыльца. На неё падал жёлтый свет из кухни. Она молчала.
Валерику показалось, что она ждёт каких-то слов от него, и он заговорил, теряясь и глотая окончания слов:
– Лера, всё будет хорошо. Правда. Ты отдохнёшь, поправишься... К осени мы вернёмся в город и будем просто жить... Нормально жить... Малыш подрастёт. Будем водить его... Ну, например, будем водить его в цирк. Усадим его между нами и станем показывать лошадей и собачек. Детям это нравится, вот увидишь!
– Цирк бесчеловечен.
В Лерином голосе вновь зазвенели угасшие было резкие нотки, и Валерик испугался. Он не хотел бесконечного повторения истерик и срывов. Он готов был отдать всё за обычный человеческий суетливый покой.
– Но почему? – почти в отчаянии вскрикнул он. – Не все же дрессировщики бьют животных. Далеко не все!
– Цирк унижает достоинство животного, – ответила Лера. – А это хуже...
– Как это? – упавшим голосом спросил Валерик.
– Да просто. Цирк был бы искусством, если можно было бы допустить, что само животное осознаёт природу искусства и воспринимает своё выступление как демонстрацию искусства, то есть, того, что недоступно большинству соплеменников. Но ведь это просто заученные кривляния. Поднимание ног. Прыжки. И больше ничего.
– А человек? Всё же большинство номеров в цирке показывают люди...
Читать дальше