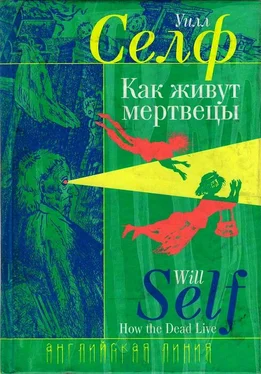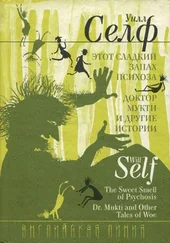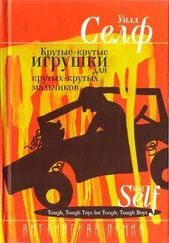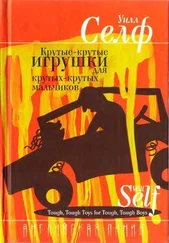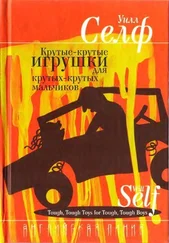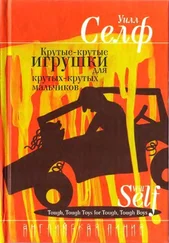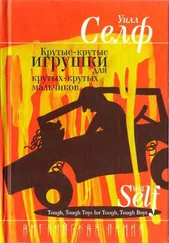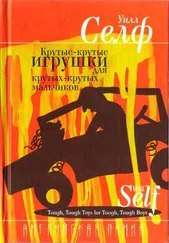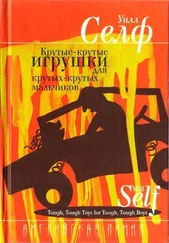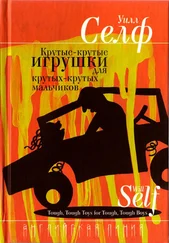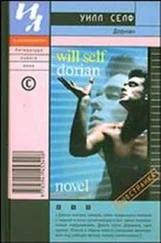— Ну вот, — говорит она, опуская меня на постель, — сейчас я оботру вам лицо и шею, и вы сразу почувствуете себя лучше.
В бытность мою вполне действующей матерью я знала эту процедуру назубок: указательный палец плотно обернут носовым платком, детский ротик пленен моей твердой рукой, по крошечным отекшим деснам проходится твердый коготь. Если бы я могла предположить, что эта техника снова будет применена ко мне, то не была бы так груба.
— Я подумала — забегу, посмотрю, как она.
— Как и положено в ее состоянии, Наташа. Она сейчас спит.
— Вы… вы ведь Дердра?
— Да.
— Вы думаете, это случится скоро?
— Мне бы не хотелось это обсуждать.
— Но как вы думаете?
— (Вздох.) Я видела людей в таком же состоянии, как ваша мама, и они жили неделями и месяцами или уходили в течение секунд и часов. Смерть, Наташа, не подчиняется нашим графикам.
— Я зайду в сортир.
Обычно хриплый голос Наташи становится на полоктавы выше и заметно вибрирует. Я ощущаю жуткий, болезненный запах пота, идущий от нее, когда она легким галопом пересекает мою комнату — почему никто не почистит эту накачавшуюся наркотиками лошадку-пони? Я слышу, как автоматически включается вентиляция, гоняя пылинки, льется вода из кранов, низвергается водопад унитаза, и, кажется, прошло всего несколько секунд, а она уже здесь и рыщет по ящикам тумбочки.
— Вы что-то ищете?
— Да… письмо… счет… я здесь оставляла.
— Какие-то бумаги лежат на столе под окном.
— Правда?
Провал. Дердра действует довольно ловко — несмотря на свой кардиган. Разгадала трюк Нэтти. Думаю, она не станет тратить много времени на испорченных, невоспитанных детей среднего класса, вроде моей дочери. Она, разумеется, не позволит Наташе уйти с моими лекарствами. Черт возьми, надо было дать ей какой-то запас, пока я могла. Теперь это произойдет у Рассела — интересно, на сколько миль она ухитрится отдалить от себя Майлса? Я даже не слышала, как она ушла — моя собственная дочь; но тогда я не чувствовала себя каким-то неодушевленным предметом.
Помню это отсутствие ощущений. Такое иногда случалось со мной здесь, в спальне, особенно в тумане джина, в можжевеловом лесу. Лежишь на кровати, чертовски хочешь спать, а Всемирная служба радиовещания не переставая жужжит в ухе. Так отчаянно хочется спать, мысли снуют в черепе, со стуком ударяясь в веки. Веки, которые сначала никак не открываются, а потом никак не закрываются; веки, которые взлетают вверх, как непокорные жалюзи. Это и происходит со мной — тело мое засыпает, а разум бодрствует, в результате — паралич. Ткань мозга ложится то лицом, то изнанкой, мозг мой всегда готов сыграть со мной злую шутку и поставить в тупик. От него столбенеешь, от этого паралича. Ха-ха. Я думала, столбенеешь, потому что боишься, но теперь понимаю, что бывает и наоборот.
Почему меня не охватывает еще больший страх, пока я лежу здесь, а радио хорошо поставленным голосом излагает какие-то мерзкие события? Не в силах двинуться, убежать. Клаустрофобия и агорафобия — все эти годы я думала, что они связаны с внешним пространством, а теперь поняла, что и тот и другой страх — на дурацком жаргоне Лихтенберга — означают «проекции». Что само тело либо слишком огромно для крошечного мозга, который блуждает по нему, либо слишком малб, чтобы вместить мириад ощущений, скопившихся в его памяти, словно тарелки в кухонной раковине. Боже, — я начинаю философствовать… а заканчиваю воспоминаниями о Пенсильванском вокзале…
…по которому шагаю, цокая каблуками, от путей к железным лестницам, цок-цок-цок, и в общий зал ожидания, цок-цок-цок. Я перехожу из одного огромного сводчатого помещения в другое, они различаются тем, что основная часть вокзала — это голый костяк, чугунные ребра, надменные почечные лоханки и взмывающие вверх, выгнутые позвонки, а зал ожидания облечен плотью кессонированного оштукатуренного потолка.
Казалось бы, Пенн-Стейшн — или даже любой вокзал — будет последним местом, где мне захочется бродить, при том, что внутри него столько пространства. Да нет. Я предпочитаю видеть в нем только внутреннюю конструкцию, огромное убежище, скрытое в одном из уголков города. Вонью паровозного дыма и пахнущим завтраком дыханием десяти тысяч человек он помогает от клаустро — и облегчает агора-. Классическим бессмертием вокзал обязан фасаду, сделанному по образцу бань Каракаллы. Но в это утро я замедлила шаг под его фронтоном не поэтому — голова моя была занята более важными вещами.
Читать дальше