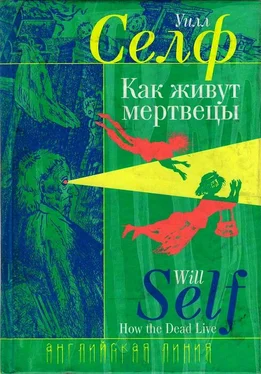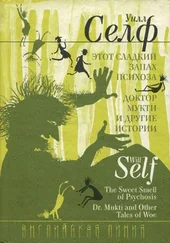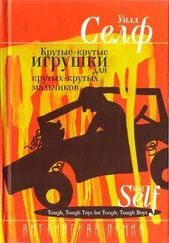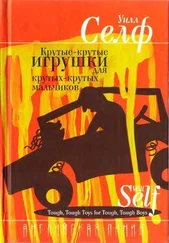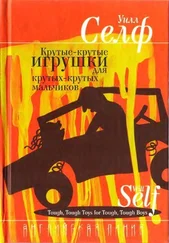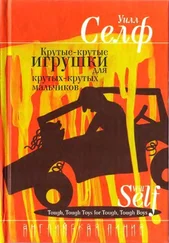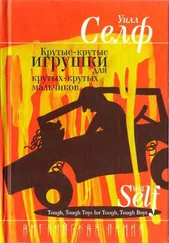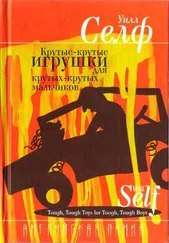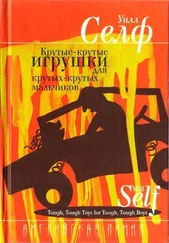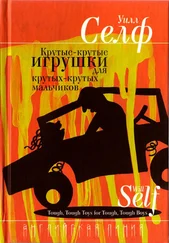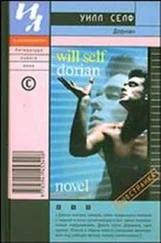Не правда ли, нет смысла посылать продовольствие бывшему Советскому Союзу? (Тогда еще ни один из них не мог и помыслить о слове «Россия»), Вы были в «Нигде»? Это новый австралийский ресторан с туземной кухней. Tres tres amusant. [32] Очень, очень забавно (фр.).
Каждый вечер в квартире моей дочери я скрежетала зубами. Холодная война закончилась, и эти подонки победили. Теперь все стали либералами. «В сущности, я либерал», — говорили они друг другу, словно это давало им право напялить на себя рубашку фашиста или брюки анархиста. По-видимому, единственными людьми, которые этого так и не поняли, были сатанинские полчища толстых, черных бедняг тред-юнионистов, озабоченных СПИДом в Гамбии.
Да, мной овладевал старомодный праведный гнев. Еле сдерживаемая ярость. Законсервированная желчь. Процеженный яд. И это Англия! Низкорослые, смуглые, преуспевающие друзья-евреи уговаривали Ричарда с Шарлоттой предпринять шоп-тур в Феникс, штат Аризона, где в племенном сиротском доме можно приобрести высокого светловолосого арийского ребенка, в родословной которого будет указано, что он произошел от мормонки и шведа. Бездетные друзья с «либеральными взглядами» советовали Ричарду с Шарлоттой слетать в Манилу, или в Манагуа, или на Маврикий, где можно задешево купить себе мулатика. Так сказать, выбрать на детском базаре. Известные своей благотворительностью и безупречной моралью супружеские пары — на взгляд которых, благотворительность начинается как можно дальше от дома — призывали Ричарда с Шарлоттой отправиться с автофургоном медикаментов в Румынию, Сомали или Рангун, где — после значительных усилий и подкупа «голубых касок» — им, быть может, посчастливится раздобыть малютку с проказой, гемофилией или энцефалитом. «Вздувшийся лобик, это так мило!»
О, это меня бесило! Я возвращалась к себе в Далстон, где Грубиян в своей роскошной енотовой шапке смотрел документальный фильм о беспорядках в Лос — Анджелесе, закинув перепачканную грязью ногу на подлокотник кресла. «Так их, ниггеров! — одобрительно вопил он. — Бей черномазых!» Под окном сидели, съежившись, выкидыши Шарли и Нэтти: «Мы хотим пи-пи», — а на кухне отплясывал на линолеуме Лити: «Под нога-ами осыпаются гли-ина и бето-он». В ванной голые Жиры мотали кишки, бормоча: «О, она в ярости, о да. О, она в ярости. Толстая старуха, старая толстуха — и в ярости. Толстая старуха, старая толстуха». И еще там была Хе-Ла, шептавшая со стен: «Ну почему эти дети не слушаются, когда я прошу их не таскать в дом грязь?» И еще там была я, изнемогавшая от всех этих неприятностей: мертвого потомства, выходок любимой дочери-наркоманки, пустившейся в очередную авантюру, и идиотского намерения Шарлотты купить себе ребенка.
Грубиян никогда не разговаривал со мной по-человечески, он всегда кричал. Но как-то вечером он взял мою старую руку в свою молодую, как бы желая сказать, что мы можем положиться друг на друга, и повел меня. Повел прочь из квартиры. Вверх по лестнице к входной двери. С улицы Грубиян крикнул в окошко Берни: «Сбрось ключ, ты, наркоман паршивый!» И ключ от замка начал спускаться вниз.
Пока мы поднимались по ступенькам, заворачивали за угол, проходили мимо грязных окон и ободранных дверей на первом и втором этажах, я заметила в нем перемену. Если вы не обращали внимания на настроение своих детей при жизни, вообразите, что с вами происходит после смерти. Для меня Грубиян оставался только грубияном, которого лучше было не замечать, особенно памятуя о том, как он бросил в лицо одной сухопарой далстонской леди, после смерти озабоченной лишь тем, как бы поизящнее подать чай викарию: «Да подавитесь вы своим чаем вместе с викарием!»
Но пока я поднималась по лестнице, следуя за его измазанной в грязи попкой, беззащитной попкой девятилетнего ребенка, он перестал быть для меня Грубияном, и вновь стал Дейвом-младшим.
Наверху нас ждал Берни, в застегнутой на молнию куртке, скалясь в бороду. Он не делал вида, что ерошит светлые волосы Дейва. Он их взъерошил на самом деле. Я вспомнила, что он отчасти жив. То есть думает, что жив. Я последовала за Дейвом. Мансарда Берни была точь-в-точь такой, какой ее описывала миссис Сет. Здесь наверху, под скатом крыши старого дома, Берни жил десятилетиями — грязный городской бедуин, потерявший охоту к странствиям. Повсюду, словно для игры в «чижа», которая так и не началась, валялись сотни картонных упаковок из-под фольги, купленной у миссис Сет. А вперемешку с ними — молочные бутылки, наполовину заполненные мутной коричневой мочой; глыбы смерзшейся одежды; кипы заплесневевших журналов и газет. В мертвой точке посередине, в лучах проникавшего сквозь грязное потолочное окно света, высился голый матрас с позорным пятном посредине. Рядом с ним стоял электрический обогреватель, раздобытый Берни, два его стержня светились в полутьме.
Читать дальше