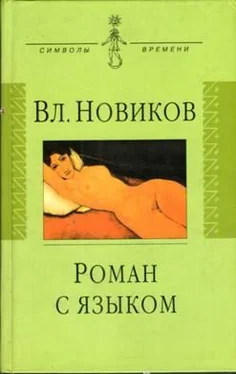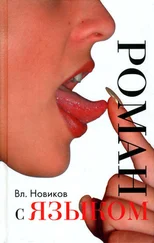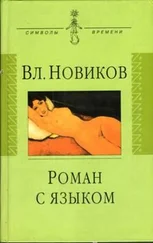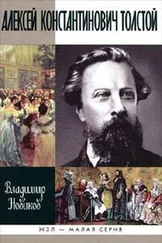С пресловутым Петровым Деля продолжает видеться и после своей благополучной защиты: несомненно, их объединяет нечто большее, чем импотенция. К каждой встрече она готовится не меньше двух дней. Начинает со старательного переписывания собственных «наработок» (противное слово, но уже укоренившееся), которые потом растворятся в монографиях мэтра (выдаст, сукин сын, как говорится, «шутя за свое», а потом ведь отнюдь не общим памятником будет бородатый монумент во дворе институтской клиники) и заканчивает мытьем длинных каштановых волос и подбриванием подмышек: этот ритуал женщины обыкновенно приурочивают к самым ответственным событиям и свиданиям.
— Эта кофточка сюда не подходит? Или юбку серую лучше одеть?
— Надеть — ты хочешь сказать? По-моему, никакой разницы. И вообще не понимаю, зачем женщины меняют туалеты ежедневно. Они это делают друг для друга, а не для мужчин, которые их ухищрений просто не замечают. А поскольку у русских женщин денег поменьше, чем у английской принцессы, то при таком стремлении к разнообразию им приходится и дешевку носить, и старье выдавать за новое. Вот если бы нашлась среди вас такая смелая женщина, которая день за днем ходила бы в одной и той же одежде! Это был бы новаторский ход: мужчины, полагаю, тут же вокруг нее забегали бы, просто подсознательно бы на них подействовало такое постоянство. Повтор — сильнейший прием.
— А, что бы ты понимал!
Никогда, даже в шутку не спрашиваю Делю о характере ее близости с Петровым, да и наедине с собой задаваться этим вопросом не хочу. Даже если… Ну, даже если, — это, в общем-то — пустяк по сравнению с ее душевной и профессиональной ему преданностью. И потом — мне не может быть плохо от того, от чего моему близнецу хорошо. Оказывается, я не эгоцентрик. Жизнь раньше навязывала мне такое амплуа, но она же сместила мой центр вбок, вывела его за пределы моего тела и разместила в точке слияния с другим телом, теперь тоже моим.
Деля, напротив, меня мордует (не от латинского ли «мордере», то есть «кусать», это словечко — или все-таки от нашей «морды»?) беспричинной ревностью постоянно. Причем поводом для моральных укусов (иногда и физических, с оставлением следа зубов на теле жертвы) служит такая невинная сфера, как моя преподавательская работа. В джазе только девушки — таков неминуемый удел всех филологических вузов. Случается, что эти девушки мне звонят, чтобы передать листочки со своими каракулями, а до появления Дели они нередко заглядывали ко мне домой. Готов поклясться, что никогда ни в малейшей степени не склонялся к тому, что мои немецкие коллеги называют «техтель-мехтель» (очевидно, по-нашему это будет «шуры-муры»). И не по причине высоких нравственных устоев, а ввиду природы своей. Но Деле объяснить это невозможно. «Не в тебе дело, а в них. Все студентки влюбляются в преподавателей, даже самых невзрачных и плюгавых». Как-то едем мы в троллейбусе, и вдруг Деля дергает меня за рукав: «Посмотри, посмотри на этого человека». Вижу из окна стоящего у перехода ничем не примечательного субъекта — лысоватого, сутулого, с совершенно бесполым и бездуховным выражением лица, да еще к тому же с бабьей болоньевой сумкой в руках. А Деля победоносно: «И вот в это я была на втором курсе влюблена. Он у нас читал гистологию». Довольно парадоксальная аргументация: она влюблялась в зачуханного доцента, а отвечать теперь должен я.
И что опять-таки парадоксально — никакой ревности к Тильде, а уж здесь-то все основания имеются. В подходящую минуту рассказываю Деле о своей трагической молодости, показываю немногочисленные сохранившиеся фотографии. Увидев стремительную осанку Тильды, схваченной кадром в полный рост, Деля на секунду поджимает губки: «Красивая… Даже удивительно, что ты…», но потом мгновенно перестраивается на пристальную, детализированную заинтересованность, как будто готовится исполнить роль той женщины, о которой идет речь: «Мне через год будет столько же… А как она одевалась? А с едой у нее были проблемы?» Мое повествование прерывается несколькими минутами молчания, то есть не совсем молчания, а я бы сказал, бессловесности. Мечты о Тильде, мои десятилетние ретроспективно-болезненные фантазии вдруг находят своеобразную реализацию. «Палимпсест», — успеваю подумать…
Стоило, однако, разделить мои рассказы если не на тысячу и одну ночь, то хотя бы на две. Я же, не утерпев, выкладываю все вплоть до разрыва, не умалчивая, естественно, и о причине (поводе?), то есть о том достойном сожаления эпизоде, когда мною овладела пресловутая Ира. Деля приходит в бешеное негодование:
Читать дальше