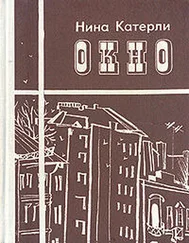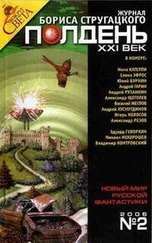В следующем за аптекой доме — продуктовый магазин. Нет, в самом деле, и сегодня в нашем переулке можно спокойно прожить с рождения до смерти, никуда из него не отлучаясь! Вон и овощной «низок»— так называли его тетки. Вход в «низок»— через дорогу с угла, здесь наш тихий переулок пересекает улица, по которой ходят трамваи. Это из-за них меня водили в детский сад за ручку, а потом, отправляя в школу, каждый раз предупреждали, чтобы при переходе смотрел сперва налево, а дойдя до середины — направо. На этой улице рядом с «низком» был судостроительный техникум, я хотел туда поступить после седьмого класса, но тетки запретили: ты должен получить высшее образование, первый в нашей семье. Сейчас на том здании тоже висит какая-то вывеска, но мне не видно, что на ней написано.
Итак, я родился в нашем переулке, в роддоме, ходил в детсад, от которого меня сейчас прогнали старик с собачонкой, лечился тут же в поликлинике, а если надо, мог лечь и в больницу, кончил, не покидая переулка, школу и уехал с того вокзала, который виден с крыши нашего дома. Вот такие дела.
Я перехожу «трамвайную» улицу. Рядом с «низком»— будка телефона-автомата. Она всегда была здесь, из нее я звонил тете Калерии в библиотеку, когда мы собирались с ребятами сразу после школы в Стрельну за трофеями, и надо было наврать, что у нас сбор или экскурсия в музей. «Трофеи» — это, если кому не понятно, детонаторы, патроны, куски бикфордова шнура и другие полезные вещи. Лично мне посчастливилось найти однажды прекрасную финку, а Толька нашел немецкий штык, и главное, всегда оставалась надежда, что попадется настоящий пистолет.
Сейчас я позвоню из этой будки домой, жена, должно быть, уже вернулась с работы и ждет меня, я обещал, что буду пораньше, а сам устроил вместо этого ностальгическую прогулку. Звоню. Подходит сын. Голос его кажется мне каким-то расслабленным, и я с ходу начинаю злиться. Вместо того чтобы сказать «позови маму», въедливо расспрашиваю, сделал ли он уроки, чем сейчас занимается, и, узнав, что слушает магнитофон, раздраженно говорю, что неплохо бы побольше читать. Эк меня! — парень кончает школу, а ему нудят про уроки! Я это все понимаю, но как-то с опозданием на три фразы. Сын спокойно и вежливо отвечает и со всем соглашается. Голос у него по-прежнему вялый. По-моему, он слушает не меня, а музыку. Черт побери, не умею я с ним разговаривать, да и все! Довольно сухо я прошу позвать к телефону мать.
— Хорошо, — отвечает он кротко.
В трубке песня, какой-то модный ансамбль, итальянский кажется, сын что-то такое говорил. Симпатичная музыка, ничем она не хуже моего «Уходит вечер», не хуже и того джаза, полулегальные записи которого, сделанные на рентгеновских пленках, мы выклянчивали друг у друга на один вечер. Вообще его образ жизни ничем не хуже того, что вел я в его возрасте. Так чего я лезу со скрипучими призывами больше читать? Их же, призывы, никто никогда не принимал и не принимает всерьез, во веки веков, аминь. Это шум, помехи, не более того. Нет, мои тетки были мудрее, даже тетя Калерия не была так чудовищно многословна и назидательна, как бываю иногда я.
Наконец подходит жена: она там жарит блины, где я? Скоро? Я говорю, где я. Говорю, что двигаюсь по своему переулку и все никак не могу решиться подойти к дому и войти во двор, видимо, одолела старческая сентиментальность.
— Не выдумывай! — возмущается жена. — Я вот тебе покажу «старческая»! Пятьдесят лет сейчас считается средним возрастом. Официально. На государственном уровне, а ты-то у нас вообще парень хоть куда. Плейбой!
Потом она замолкает, я тоже молчу, и она тихо спрашивает, про что я думаю. В трубке играет музыка.
— Про курзал, — отвечаю я наконец.
— Про… что?
— Неважно… Я скоро приду. Целую. — И я вешаю трубку. Не понимает.
…Я сдал экзамены за седьмой класс и получил аттестат: «окончил семилетку». Отметки, в общем, были хорошие, только Емельян вывел тройку — не простил хулигана, который «устроил в классе балаган» с использованием дождевого червя. А я ничего не устраивал, я честно читал «Трех мушкетеров» под партой, а он взял и вызвал.
После выпускного вечера я несколько дней ругался с тетками, не пускавшими меня в судостроительный техникум. И, хотя туда поступала Нинка Бородулина, в конце концов сдался.
Через несколько дней я уезжал в лагерь, в Петергоф, я уже был там прошлым и позапрошлым летом, и мне понравилось. Это был лагерь от тети Ининого завода, у меня уже завелась там целая куча приятелей. Целые дни мы проводили в парках, и с тех пор я куда больше парадного Нижнего парка с фонтанами люблю Верхние, особенно Пролетарский. Там и сейчас по будням пусто и тихо, а тогда это был просто лес с заросшими прудами — мы их называли «кикиморячьи болота» и ловили там головастиков и тритонов. Кстати, куда делись нынче тритоны? В общем, я ждал отъезда с нетерпением, тем более что очень противно было смотреть на Нинку Бородулину, которая уже воображала себя студенткой и как-то заявила мне, что разговаривать со мной одна тоска, потому что у меня — еще отрочество, а у нее, видите ли, уже юность. Зато, прогуливая своего Ивася по переулку, она вовсю кривлялась перед взрослыми парнями. В качестве девушки. На моих глазах пижон с палашом из «Дзержинки» спросил ее: «Девушка, как зовут вашего бобика?», а она: «Вы сами бобик!» — и глазищами хлопает, чтобы ему было лучше видно, какие у нее замечательные ресницы.
Читать дальше