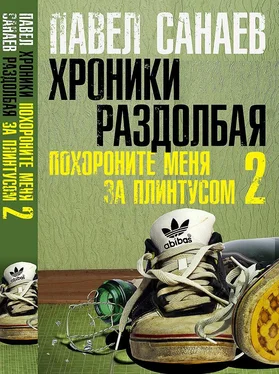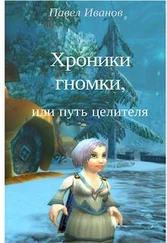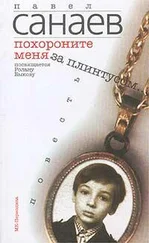Десятилетнему Раздолбаю и его школьным друзьям Брежнев казался единственной гарантией того, что НАТО не посмеет напасть, и их даже не смущало то, что он с трудом разговаривал. Они знали, что это великий человек, а великому человеку простительно шамкать в старости. Иногда кто-нибудь начинал со страхом представлять, что будет, когда Брежнев умрет. Это казалось невероятным — умереть Брежнев не мог. Он был гарантом мира во всем мире и не мог умереть, как не могло потухнуть солнце — гарант тепла и света. Все понимали, что его жизнь будут продлевать самые лучшие врачи, и, может быть, даже целые научные институты работают, чтобы этот человек жил как можно дольше. С помощью новых открытий Брежнев сможет жить и сто лет, и даже сто двадцать, но потом… потом все-таки умрет, и тогда начнется война.
НАТО и США некому будет сдерживать от нападения на социалистические страны, СССР придется за них вступиться, и хотя они, конечно же, победят, кому-то из них, наверное, придется погибнуть. Впрочем, считали они, к тому времени, когда Брежневу будет сто двадцать лет, им самим будет где-то по пятьдесят пять, и на войну их не призовут. Погибать придется тем, кому в этот момент окажется восемнадцать-двадцать, но эти ребята еще даже не родились, так что сочувствовать им рано. На этом страшные мысли о смерти Брежнева отступали, и небо снова казалось высоким и безмятежным.
А потом Брежнев умер, и ничего страшного не произошло. Через год умер его непонятный преемник, еще через год непонятный преемник преемника, и, перестав бояться войны, школьные друзья Раздолбая стали шутить, что любимое развлечение членов Политбюро — гонки на лафетах. Затем появился моложавый Горбачев, который бойко разговаривал без бумажки и резво ходил без посторонней помощи, и в жизни начались перемены, названные позже Перестройкой.
К тому времени Раздолбаю было уже четырнадцать лет, и у него накопилось много вопросов, на которые не было ответов. Так, например, он не мог взять в толк, почему, если их страна самая передовая, лучшую в мире игрушку — электрическую железную дорогу — делают не они, а немцы? Почему польские и французские индейцы сделаны аккуратно и красиво раскрашены, а индейцы Ростовской фабрики выглядят пластмассовыми блямбами? Почему капсюльный «кольт» «made in USA» стреляет оглушительно, а советский пистонный пистолет только дымно щелкает? Почему заграничные машинки красивые, а копии «Жигулей» и «Москвичей» — такие же угловатые куски железа, как их настоящие собратья? Без ответов на эти вопросы казалось нелепым писать под диктовку комсорга Лени Бадина: «Прошу принять меня в ряды ВЛКСМ, чтобы я мог наравне со старшими коммунистами развивать наше прогрессивное общество». Раздолбай хотел даже отказаться от этой формальности, но мама потребовала не быть «фрондирующим идиотом».
— Вступай! Не примут потом из-за этого в институт — поломаешь свое будущее, будешь локти кусать! — кричала она.
Раздолбай вступил, чтобы не ломать будущее, но «развитие прогрессивного общества» все равно казалось ему смешной неправдой. Ему было непонятно, как можно считать их общество прогрессивным, если все по-настоящему хорошее прорывается к ним из «непрогрессивного» общества — машинки, джинсы, хорошая музыка…
Лучшей музыкой в мире Раздолбай долгое время считал «Биттлз» и Челентано, но однажды в «Международной панораме» заговорили о «западном мракобесии» и показали полуминутный отрывок выступления группы KISS. Авторы передачи, видимо, рассчитывали, что советские люди в ужасе отшатнутся от размалеванных монстров и будут весь вечер залечивать душевные травмы прослушиванием Толкуновой, но получилось наоборот. На следующий день в школе Раздолбая говорили только об этом фрагменте: «Ты видел? А ты видел? Ваще!» Именно тогда Раздолбай подкатил к усатому меломану Маряге, которого до этого сторонился, и спросил, есть ли у него KISS и может ли он дать послушать. Маряга дал ему кассету с концертной записью, и Раздолбая захватило удовольствие, сравнимое разве что с разглядыванием девушек в кружевах.
Он слушал концерт по несколько раз в день и мучился новым вопросом — почему в их самой лучшей стране невозможно оказаться в такой же ликующей перед сценой толпе и так же хором скандировать имя любимых исполнителей «Кисс! Кисс! Кисс!»? И чтобы солист крикнул в ответ: «Next song is Love Gun!», [68] Следующая песня «Орудие любви!».
и стадион взорвался бы этой невероятной музыкой, от которой вибрирует каждая клетка тела. Почему эту музыку не только нельзя услышать на стадионе, но даже на школьной дискотеке нельзя запускать для танцев?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу