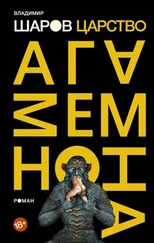1 ...6 7 8 10 11 12 ...114 — Мы, чекисты, хотим и спасем вас, таких же, как вы. Это наш долг. Писатели призваны сыграть главную роль в нашей революции. В книгах, которые они напишут, будут жить только люди, точно и твердо знающие, что и как надо делать для ее победы, враги революции останутся как фон, а остальные, все, кто думает лишь о своей шкуре, хочет переждать, пересидеть, остаться в стороне, — все они должны быть искоренены, и память о них тоже. Эти люди должны будут исчезнуть навсегда, навечно, исчезнуть так, чтобы о них ничего не знали ни дети их, ни внуки, даже что они вообще были. От них ничего не должно остаться, они должны сгинуть, как сгинули и растворились среди других народов бесписьменные печенеги и половцы. Таков приговор, и литература приведет его в исполнение. Но мы, Владимир Иванович, мы, чекисты, спасаем этих обреченных. Все те, кто пройдет через наши руки, спасутся. Мы воскресим и многих из уже погибших. Год назад я добился папок для новых дел. На них написано: «Хранить вечно». Подозреваемые боятся их, как огня. Они уверены, что из-за этой надписи мы, будто в аду, станем расстреливать их изо дня в день до скончания века. Какая чушь! Так они обречены, а эта надпись сохранит их, не даст сгинуть.
Вот ко мне ввели подозреваемого. Я пишу номер дела, его фамилию, открываю папку и начинаю допрос. У меня сразу есть версия. Но если я вижу, что она не подходит к обвиняемому, я легко отказываюсь от нее. Я говорю с ним каждый день и с каждым днем все лучше понимаю его, все легче подбираю ему связи, контакты, сообщников, наконец, то, что он совершил. Он никому не верит, ничего не понимает, всего боится. Он пытается объяснить мне, что ничего не смыслит ни в революции, ни в контрреволюции, что всегда хотел только спастись, спрятаться, переждать, что больше ничего не делал, что это не преступление.
Я слушаю его голос, самый темп речи, смотрю на его глаза, руки, он становится для меня ясным, близким, родным, и я уже без труда нахожу самое сложное — детали. Тут важна каждая мелочь: и место, и обстановка, и погода, и время. Разные люди по-разному ведут себя утром и вечером. Детали соединяют картину, делают ее живой. Если они подлинны, она сама начинает говорить с тобой. И вот приходит момент, когда обвиняемый понимает, что я прав, что это он и есть, что я, как отец, породил и создал его, и он сознается. Наступает главное, то, для чего шла вся работа. Этот обычный человек принимается с блеском и талантом рассказывать о себе. Страха уже нет. Он говорит и говорит, он захлебывается и не может остановиться. Я пишу и с трудом поспеваю за ним. Он рассказывает мне поразительные вещи, вещи, о которых я, произведший его на свет, и не подозревал. Любой писатель знает — лучшие куски не те, что он придумал, а потом записал, а те, где, когда он писал, для него все было новым, где он уже создал своих героев, они живые, и думают, и живут сами. Так же и мы. Поймите, разве нам нужен суд? Есть только вы и я.
Здесь Челноков остановился, долго, словно припоминая, смотрел на меня, затем отвернулся и отошел в сторону. Лбом он прислонился к стене, руки его висели, и было видно, как он устал. Потом, по-прежнему стоя ко мне спиной, он сказал, что распорядится, чтобы меня перевели из камеры, где я сидел с уголовниками, в одиночку, в которой, как он думает, мне будет спокойнее и лучше.
— Пять дней вас никто не будет трогать — делайте что хотите, хоть спите целые сутки, но я прошу вас внимательно обдумать все, что я вам говорил: кто, если не вы, философ, сможет понять меня.
Этих пяти дней мне хватило, я увидел, что он прав, и когда меня снова отвели на допрос, сказал Челнокову, что он и его товарищи занимаются святым делом, действительно спасают людей, и поэтому я готов помочь им и подписать без изъятия все, что они считают нужным. Однако у меня есть одно непременное условие: то, что он говорил, должно быть внесено в протокол перед моим признанием, чтобы не только не погибли навечно люди, входившие в мою организацию, но и эти его слова — объяснение и оправдание всех нас.
Далее Кучмий снова вернулся к половой жизни литераторов и сказал, что он уверен, что скоро везде основой демографической политики станет размножение культур чистых линий, какими являются писатели. Ведь они не только органичны и цельны, но и необычайно плодовиты. По самым скромным подсчетам, некоторые русские классики оставили после себя свыше тысячи прямых потомков, и это, если судить по Диккенсу и Бальзаку, отнюдь не предел. Первый час он закончил тем, что всем писателям должно присваиваться звание матери-героини с полным объемом причитающихся этой категории женщин льгот и привилегий. Нота была мажорная, уже прозвенел звонок, мы встали, и тут он каким-то мертвым голосом сказал, что у писателей нет материнского инстинкта: они самодостаточны и поэтому всегда убивают своих любимых детей. Они преступники и убийцы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу