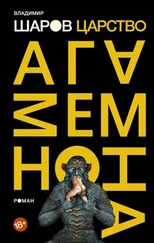За полгода, что они просидели в тюрьме, они сделались слабыми, как дети, и теперь, пройдя в кандалах десять верст, так устали, что, едва был объявлен привал, повалились на землю и сразу заснули. Лишь на закате их подняли, снова построили и погнали дальше.
Через четыре дня, когда они уже миновали Владимир, втянулись и ровно шли на восток всегдашним путем ссыльных: Нижний Новгород — Казань — Урал — Сибирь, посреди дороги их обогнала и остановила кибитка, из нее выскочил рейтер в новенькой форме, крикнул имя стрелецкого десятника — старшего в отряде, что вел партию, и, когда тот подскакал, передал ему с рук на руки Сертана, тут же переложенного на телегу, груженную вещами этапа. Сертан был совсем плох и сам идти не мог. На телеге и довезли его до Сибири. То, что Сертан снова, как и в Новом Иерусалиме, с ними, было понято ссыльными так, что Господь не забыл их, не бросил, Он ведет их и все идет, как и должно идти.
Еще когда их, после приговора Никону, в Новом Иерусалиме арестовывали стрельцы, кто-то, кажется, один из актеров, сумел опередить двух подьячих, которые должны были обыскать келью Сертана в монастырском гостином дворе, и вынес оттуда его бумаги, планы, записки, в том числе и дневник. Эти бумаги спасший их, неизвестно по чьему совету, предварительно пронумеровав, разрезал на тысячи мельчайших кусочков, перемешал так, что понять написанное стало невозможно, и ночью во время привала в Нахабино — на полпути между Новым Иерусалимом и Москвой — отдал каждому из арестованных его долю.
В остроге, пять месяцев пытаемые, допрашиваемые и обыскиваемые, они сумели до единого сохранить эти клочки, что тоже нельзя понять иначе, как чудо. Потом уже на этапе, на второй или третий день пути ссыльные снова аккуратно соединили и склеили их вместе, и, когда Сертан был привезен к ним, они, заранее счастливые от того, как он обрадуется и удивится, когда увидит, что все уцелело, спрятали бумаги в его вещевой мешок и принялись ждать. Он бы нашел свои рукописи самое позднее вечером, так что ждать им было недолго, но они и впрямь стали, как дети, едва выдержали час и признались ему. Сертан не обманул ожиданий, был и рад, и тронут, и удивлен, даже заплакал. Теперь он получил возможность возобновить дневник и действительно сделал это, правда, его «ссыльные» записи, как правило, коротки и отрывисты.
Раньше, когда Сертан по тем или иным причинам долгое время не вел дневника, впоследствии он очень подробно описывал пропущенное, как бы соединяя части своей жизни, вновь делая ее целой и непрерывной. Так было и в Польше, и в первые месяцы его плена в России, и тогда, когда он оказался в Новом Иерусалиме. Однако на этот раз ничего из времени его заключения в дневник не вошло, словно его вообще не было или было что-то совсем малозначительное, о чем не стоило писать. Лишь потом, когда они уже переправились через Волгу и Москва осталась далеко позади, он бегло и почти всегда некстати упоминает несколько раз, что сидел в тюрьме.
В одном месте Сертан пишет, что обвинялся в том, что он польский лазутчик, и что ни разу ни на одном допросе подьячий, который вел его дело, не назвал Новый Иерусалим, словно Сертан там никогда и не жил. В другой раз Сертан замечает, что ждал смерти, а во время дознания — обычных и даже обязательных при расследовании таких дел, как его, пыток, но их не было, и все это: и то, что не пытали, и то, что не спрашивали про Новый Иерусалим, — непонятно и странно.
Из тюрьмы Сертан вышел доходягой, каждое утро он по часу и больше кашлял, харкал кровью, но позже, если день был теплый и тихий, грудь переставала болеть, его отпускало, и он иногда по нескольку часов чувствовал себя хорошо и покойно. Чтобы легче было дышать, под спину и голову он подкладывал по мешку и так, полусидя, ехал. Телега двигалась медленно, в ногу с партией, вещи, на которых он лежал, смягчали тряску, и он подолгу смотрел то на небо, то на людей, идущих и едущих навстречу этапу, то на тянущуюся по обеим сторонам дороги равнину. Он был рад — об этом говорил ему Никон, — что равнина никогда не кончится, лишь будет меняться, да и то не всерьез, здесь была надежда, что и его жизнь тоже кончится не скоро, а так и будет тянуться тихо и еле-еле, как ехала телега. Он знал, что тяжело болен, знал, что умирает, жить осталось год или меньше, и хорошо ему в это последнее отпущенное на его долю время будет совсем мало, боли с каждым днем усиливаются, поэтому, что его не казнили, а дали дожить жизнь, вовсе не представлялось Сертану таким безусловным подарком, и он думал о том, почему его не казнили, скорее с удивлением, чем с радостью.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу