В их репликах сквозила вежливая едкость, грозившая перерасти во взаимные оскорбления. И мне в голову пришла тщеславная, утешительная мысль, что эти две женщины готовы разорвать друг друга из-за меня.
— Что ты наденешь вечером? — спросила Ребекка.
— Не знаю, мне не очень хочется идти туда.
— Я могу тебе одолжить что-нибудь из своих вещей, мы одного роста, хотя в бедрах ты явно шире.
Беатриса сильно вздрогнул, а я с трудом удержался от смеха.
— Мне не нужна твоя одежда. Все необходимое я взяла.
— Я предложила это, чтобы ты не выглядела слишком запущенной. Ладно, голубки, я вас оставляю, мне надо принести корм в клювике для моего птенца.
Долгое молчание воцарилось во внезапно опустевшем баре. «Голубки» избегали смотреть друг на друга, еще более смущенные внезапным исчезновением этой чужой женщины.
— Я помешала вам, правда?
— Вовсе нет, мы разговаривали…
— Не лги, Дидье, это было написано у тебя на лице, когда я вошла.
— Хватит с меня твоих подозрений!
— Дидье, — повторила она (и в ее дрожащем голосе звучала мольба), — скажи своей Беатрисе, что это недоразумение, что все это мне снится.
Я остался глух к этим сигналам бедствия. Она смотрела на меня удивленными глазами, мало-помалу проникаясь истиной, в которую не хотела верить. Она уже все угадала и что-то лепетала, готовая заплакать. Не помню пошлостей, которыми мы тогда обменялись: я говорил ей обычные вещи, но сказать мне было нечего, и стереотипы, в принципе запрещенные между двумя любящими людьми, громоздились между нами, словно трупы. Пустяки, казавшиеся такими обворожительными в устах Ребекки, раздражали меня в Беатрисе — она в очередной раз проиграла это состязание.
— Взгляни на меня, — заговорила она с болью в голосе, — я не только красивая, но живая, искрящаяся. А Ребекка — сексуальная западня, выдумка мужчин. Не понимаю этой потребности все разрушить между нами просто потому, что ты пожелал эту девку.
Я чуть не расхохотался: она — искрящаяся? Да, словно выдохшееся шампанское! Она сообразила наконец, что досаждает мне своим присутствием. Одного слова было бы достаточно, чтобы вернуть ей надежду, но я промолчал.
— Это Франц вскружил тебе голову, не знала, что ты настолько подвержен влиянию. Знаешь, она не такая уж красивая, твоя Ребекка, слишком вычурная, искусственная…
Вместе с ней я сторонился радостного легкомыслия, пора было мне наверстывать упущенное.
— Но ответь мне наконец, неужели ты не видишь, что они насмехаются над нами, настраивают тебя против меня, чтобы рассорить нас?
— Префекты полиции и ревнивые женщины сходятся, по крайней мере, в одном: у них галлюцинация заговора, — сказал я с иронией, радуясь, что сумел развить идею, подброшенную мне накануне Францем.
— Ну, разумеется, я брежу…
Она — дрожала всем телом, вся во власти сильного волнения; нос у нее вздулся, и рыдания не заставили себя ждать: сквозь слезы слышались жалобы, что мы больше не любим друг друга. Бармен смотрел на нас озадаченно. Этот диалог прискучил мне, как всегда бывает, когда ты виноват и нужно оправдываться. Истина же состояла в том, что Беатриса больше не котировалась на рынке и не могла с этим смириться. Котироваться на рынке : не знаю, почему тем утром это выражение так мне понравилось. Я воображал мир влюбленности огромным базаром, где одни предлагали себя, а другие выбирали. По мере того как люди старели, их становилось все больше в стане предлагающих, и они меньше привередничали в выборе желанного объекта. И я думал о парижских подругах Беатрисы — всем по тридцать, как ей самой, некогда высокомерные мученицы, вокруг которых роились мужчины, чьи лица теперь выражали постоянную мольбу: «любите меня», жалкие страдающие девицы, готовые уцепиться за любого, лишь бы спастись от заброшенности и одиночества. И я чувствовал, как далек, безмерно далек от этой женщины, не принадлежавшей более к миру моих нынешних чувств: хоть бы она убралась куда-нибудь на сутки!
Позже, под проливным дождем, в компании Марчелло, Раджа Тивари и еще двух десятков человек мы высадились в Пирее. Для меня, отправляющегося в Азию, Афины могли быть лишь тем, что называется штрафом при игре в гуська, смутным воспоминанием второстепенного порядка. Эти пресловутые истоки нашей культуры были мне почти так же чужды, как мифология племен банту или пантеон сибирских божков. Мои недавние интриги значили для меня гораздо больше, чем это нагромождение памятников, выставляющих напоказ ностальгию о своем ушедшем величии. Я отправился в путь за открытиями, а не за воспоминаниями. Уродливость Пирея подтвердила мою неприязнь: редкие живые существа в непромокаемых плащах или под черными зонтами бродили среди этих эстетических ужасов, у подножия отвратительных домов, источавших зловонное дыхание. Ледяной ветер, гнавший перед собой скомканные газеты, наконец, агрессивность автомобилистов, которые из озорства наезжали на нас, изо всех сил нажимая на клаксоны, окончательно настроили меня против этой экскурсии. И когда надо было спуститься в метро, чтобы добраться до площади Омония, а затем до Акрополя — иными словами, потерять час или даже полтора в общественном транспорте, — я забастовал и повернул назад, невзирая на уговоры Беатрисы. Что мне шедевры античной Греции — мне, который готов был отдать Парфенон, Дельфы и Делос за один поцелуй!
Читать дальше



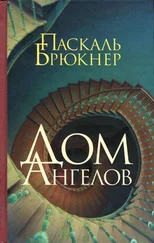
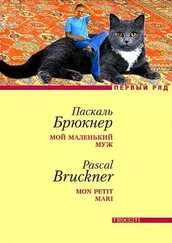
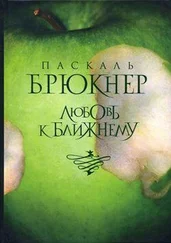

![Паскаль Энгман - Огненная земля [litres]](/books/386897/paskal-engman-ognennaya-zemlya-litres-thumb.webp)



