Паскаль Брюкнер - Горькая луна
Здесь есть возможность читать онлайн «Паскаль Брюкнер - Горькая луна» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: М., Год выпуска: 2009, ISBN: 2009, Издательство: Текст, Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Горькая луна
- Автор:
- Издательство:Текст
- Жанр:
- Год:2009
- Город:М.
- ISBN:978-5-7516-0817-0
- Рейтинг книги:4.67 / 5. Голосов: 3
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Горькая луна: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Горькая луна»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Горькая луна — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Горькая луна», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Я старался забыть Ребекку, но беспокойство мое от этого лишь усиливалось. Больше всего опасаемся мы самого дорогого для нас существа. И ревность — всего лишь форма для запуганного воображения, преобразующего в уверенность малейшее подозрение. Все эти муки учили меня любви — чувству, без которого я вполне мог бы обойтись. Если бы любовники были способны признаться, когда связь их завершается, сколько они выстрадали друг от друга из-за неуверенности, порожденной взаимной страстью, сколько провели бессонных ночей, мучительных минут в попытках разгадать тайну другого! Увы, когда они это делают, признание не имеет уже никакой цены, они перестали любить, они слишком рады избавиться от измучившей их привязанности. Вот так и прошло лето. Подобно Ребекке, я отправился в Марокко, но только месяц спустя и не увидевшись с ней. И пребывание в стране, которую она только что покинула, дало мне неприятное ощущение, будто я расследую ее поведение. Случайное знакомство с одной семейной парой, сделанные ими полунамеки на ее счет усилили это тягостное впечатление, еще больше смутив мой дух. Я закрутил несколько романов: мне нужен был этот оплот из имен и тел, чтобы защититься от Ребекки и в нужный момент выставить свои похождения как противовес ее интрижкам. Ибо любовники, как воюющие народы, захватывают заложников для будущего торга, из страха оказаться с пустыми руками за столом переговоров. Эти кратковременные связи успокоили меня и позволили продержаться до нашей повторной встречи.
Она прошла лучше, чем я ожидал. Ребекка меня не забыла, и, несмотря на измены, о которых она рассказывала с чуть излишним, на мой взгляд, удовольствием, я по-прежнему занимал в ее сердце господствующие позиции. Рана от первой душевной боли затянулась быстро, и я воспользовался этим возвращением, чтобы утолить безмерное вожделение к этой женщине, которая так измотала меня своим отсутствием. Под любым предлогом я тискал ее: этот стан, эта плоть проникали в меня, как некий порядок вещей. Я находил ее прекрасной, упоительной, загадочной — и признавался ей в этом. Я уже говорил вам, что любил и прежде, что познал крах любовных отношений; будучи в течение двух лет женат, я даже имел девятилетнего сына, родившегося в самом начале этой истории, который остался жить с матерью, но навещал меня один-два раза в неделю. Несомненно, любовь — это два одиночества, совокупившиеся с целью породить недоразумение. Но разве существует более обольстительное недоразумение? А истинная мудрость разве не состоит в способности беспрестанно влюбляться? Начало связи накладывает свой отпечаток на все, что последует: магическое мгновение, к которому неутомимо возвращаются в разговорах любовники, истрепывающие словами сладость первых дней. Вообще, первое соприкосновение сродни надежде, оно вновь и вновь пробуждает безумную мечту о подлинной, совершенной любви. Вот почему есть встречи слишком прекрасные, убивающие чувство, встречи банальные, предвещающие пошлость отношений, встречи, насыщенные ожиданиями, от которых любовники уклониться не могут, ибо это чревато полным поражением.
Мы возобновили нашу прежнюю жизнь; но близилась зима, первые дожди сделали наши ночные вылазки затруднительными. И мы поселились у меня (Ребекка жила с родителями), чтобы познать типичное счастье семейной пары, которое состоит из сладостных повторов, размеренных наплывов чувства, отложенных ежедневных забот, счастье банок с вареньем и домашнего очага, куда забиваешься, чтобы укрыться от шквальных ветров внешнего мира. Банальностью этой мы наслаждались тем более невинно, что, будучи внове друг для друга, воспринимали ее как отклонение от нормы. Мы были достаточно богаты и изобретательны, чтобы разрешить себе некое слабое подобие брака, дабы избрать посредственность самим, а не сносить ее поневоле. Простейшие жесты и поступки — включить телевизор, приготовить что-то вкусненькое — были для нас роскошью общения. Холодная погода и расцветающее чувство вступили в сговор, чтобы склеить нас намертво. Наша совместная жизнь стала временем лени и неги. Семейный союз источал доверие и спокойствие. Уникальные мгновения, не поддающиеся рассказу, ибо счастье имеет собственную историю, которая не может быть обыкновенной, а память смешивается с забвением — отдельные эпизоды столь насыщенны, что ретушируются самим своим совершенством, застывают в вечном тумане.
Очень быстро теплая, гибкая, пышная Ребекка стала воплощением всех женщин, которые занимали место в моем сердце до нее. Она была для меня неистощимым источником раздумий и восторгов. Повсюду ее сопровождал светоносный ореол, волшебный круг, где я собирался спалить крылья, словно бабочка, околдованная лампой, которая ее обуглит. Я все лучше узнавал Ребекку и раскрывал ее, будто прекрасный плод во всей полноте чудесных свойств. Хотя между нами лежала самая глубокая из всех возможных бездн — классовая и конфессиональная, — меня это ничуть не огорчало. Я понимаю любовь не иначе как мезальянс и считаю большим несчастьем любить в своем кругу, с данной от рождения религией. К чему создавать иерархию классов и культур, когда можно видеть в них различия во всей их чистоте, которые притягиваются и отталкиваются. Я любил в Ребекке разделявшую нас пропасть и тот мостик, который мы сооружали, чтобы ее преодолеть. Ибо эта дочь бакалейщика и парикмахерши обладала в моих глазах качеством, аристократическим по преимуществу, недоступным для всех богатеньких и благовоспитанных барышень, — странностью. Сама же она изъясняла это на метафорический манер андалузской литературы: «Во мне вся поэзия овощей и фруктов, я дочь Косаря из Бельвиля, принцесса Мяты, королева Кориандра и богиня Кардамона, во мне свежесть помидоров, зелень латука, острота перца, кожа моя сравнима со сладостью и благоуханностью мускатного винограда, слюна моя — мед, к которому ревнуют пчелы, живот мой — пляж тончайшего песка, чресла мои — сочный рахат-лукум, изливающийся сахарными слезами». О нежная, любимая моя, со стыдом называющая свое ремесло буржуазным левакам, с которыми я водил знакомство, а те лишь морщили нос, когда она шептала им на ухо, кто ее отец. «Франц якшается со всяким сбродом, — вздыхали они, — его всегда тянуло к маникюршам и продавщицам». Позвольте мне уточнить: я и все мои друзья, в прошлом комбатанты, ныне приверженцы свободных профессий, принадлежали к тем кашемировым левым, что живут в центре Парижа и настолько же презирают народ, насколько его боятся правые. Маменькины сынки в джинсах, мы поднаторели в марксизме, но среди тружеников чувствовали себя неуютно и рабочих-иммигрантов терпели лишь на своем месте, иными словами, в траншее для прокладки труб или на мусоровозе. В общем, мы составляли братство сталинистов диско, столь процветающее, столь влиятельное в наши дни: экс-активисты, обратившие свой сектантский критицизм на самые пустые темы и осуждавшие тряпки, ночные клубы и стрижки с той же нетерпимостью, что некогда политическую линию партии. От своего недолгого увлечения революцией мы сохранили лишь умение обличать и пресекать, неуемное желание осадить собеседника и заткнуть ему рот. Безапелляционность нашу лишь усиливало то, что мы сами сознавали свою суетность и жажду искупить догматизмом грех легковесности. Десятилетия социалистической пропаганды завершились, благодаря нашему бредовому нарциссизму, маниакальным влечением к силе и власти. Вот и я понуждал Ребекку умалчивать о семейных корнях и не предавать огласке профессию, я поощрял ее контрабанду, оказавшись меж двух огней и будучи слишком труслив, чтобы предать свою касту — тем более что это были годы, когда презрение к народным увеселениям и молчаливому большинству стало центральной темой официальных левых партий. А ведь мне нравилась ее профессия, нравились мишура и блеск салона, где она работала, белые халатики, удлиненные шлемы сушилок, резкий свет, придававший всему помещению облик космического корабля; и по любви к легкомысленным вещам, которую не могли удовлетворить мои медицинские занятия, я испытывал ностальгию к пышным показам мод, к выставкам готового платья и бродил вместе с Ребеккой по магазинам женской одежды, специализированным лавчонкам, щупал самые яркие ткани, сравнивал крой с рвением неофита, стоящего на пороге инициации.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Горькая луна»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Горькая луна» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Горькая луна» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.



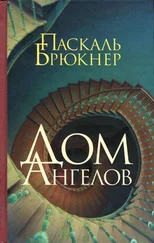
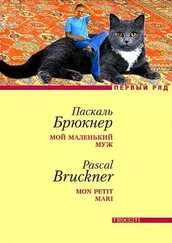
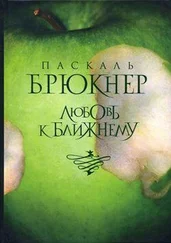

![Паскаль Энгман - Огненная земля [litres]](/books/386897/paskal-engman-ognennaya-zemlya-litres-thumb.webp)



