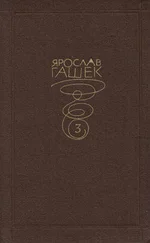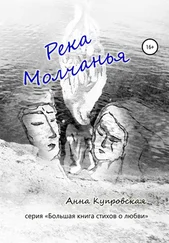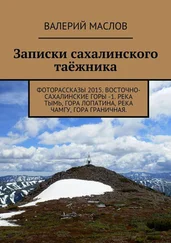Его тело меня страшно разочаровало, в одежде он выглядел гораздо лучше. Если не смотреть на его лицо, можно было подумать, что передо мной глубокий старик. Отвратительная синяя татуировка в виде колючей проволоки на плече. Слишком долгая жизнь, слишком яркая и порочная. Его живот выглядел так, словно из него вынули все внутренности. Он был болен и почти ничего не ел, кроме лекарств и алкоголя. Я любила его целовать в эту бледную горячую впадину, которой обрывалась крепкая грудная клетка, мощный каркас, обтянутый вялой пергаментной кожей. Говорила: у тебя живот, как у святого Себастьяна. Смеялся. Читал много стихов на память. И еще эта манера говорить на вдохе, очень странная.
Однажды сказал: ты в постели как кошка. Уточнила: ты был в постели с кошкой?.. Смеялись. Смеялись. Одиночество ждало за порогом спальни и никуда не уходило.
Ш. снова стал работать в галерее. Думаю, не из-за денег, а просто в свое удовольствие: выпивал, беседовал с подвыпившими гостями, поигрывал ножом, улыбался девушкам. Я приходила каждый день в шесть и оставалась до закрытия. Сидела в баре, напивалась, смотрела на его руки. Руки были чудо как хороши, пожалуй, даже слишком. Иногда хватала его руку через стойку и прижимала к губам. Видела в зеркало, как за моей спиной люди обмениваются многозначительными ухмылками. Мне было все равно. Пару раз Ш. отказывался мне наливать, говорил — тебе хватит. Цветы принимал сухо: спасибо, я не заслуживаю. Ждала, ждала каждый вечер, но очень редко он шел со мной. Провожал, но не заходил. Или я провожала его до метро.
Как-то раз в баре он от скуки стравил меня с незнакомой женщиной, сказав, что она к нему пристает. Я обернулась в ярости, с трудом навела фокус, — женщина была красивой и очень печальной и смотрела на меня с жалостью. Нравится? — спросила я, кивнув в сторону Ш. Очень, ответила она. Такой вот был короткий разговор. Но только говорили мы так, как одни лишь пьяные, отчаявшиеся и влюбленные женщины могут говорить о том, за кого готовы друг друга убить. В кино такие сцены плохо получаются: этого не передать даже самым гениальным актрисам. Ш. стоял за стойкой и поигрывал ножом.
Он не любил меня. По его словам, вообще никого не любил.
В один из вечеров, прощаясь, сказал, что завтра в баре его не будет: ложится в больницу. Сказал: позвоню тебе, сообщу, куда мне можно принести апельсины. Не позвонил. Его номера не было ни у кого из моих знакомых, но я знала, где живут его родители. Помчалась к ним. Дверь открыла сестра, смотрела испуганно и удивленно: в больнице?! да что вы?! а ведь я была у них в пятницу, и все было хорошо!.. Я развернулась и пошла назад, не прощаясь. Это «у них» могло значить только одно: он был женат, а я ничего об этом не знала. Никогда не чувствовала себя так глупо. В баре была его помощница. Пожала плечами: да, у него есть жена, я думала, ты знаешь.
Я дико психовала, хотя понимала, что злиться не на кого, кроме себя. Больше я не приглашала его. Только однажды, в стельку пьяная, увязалась за ним до метро и по дороге сказала: хорошо, что я не встретила тебя лет десять назад, а то бы ты мне всю жизнь испоганил. Он смеялся и держал мою руку в своей невозможно красивой руке, не давая мне упасть в кислый мартовский снег. Он был далеко, слишком далеко от всех женщин этого мира. Его сердце было пустым и бездонным, и ни одной из нас его было не заполнить.
* * *
Вторые сутки похмелья — медленное возвращение из самого центра ада, из самого ануса этого конуса, в первый круг, в бледный лимб. Вчера еще — или позавчера — я была Светоносным, низвергнутым с девятых небес восхитительного опьянения во льды преисподней, лишенным красы и наказанным жутким уродством. А ныне — смотрите, мне даже приятно кружиться по этой орбите, где еще ломает и выкручивает, но голова уже ясная. Вторые сутки — это когда похмелье уже отпустило внутренние органы, продолжая вгрызаться в кости и сухожилия. Многие ли из нас спускались так глубоко, в бездну, кишащую черными гадами, смердящую серой?.. Ради чего? Ради возвращения.
После парочки таких путешествий обнаруживаешь у себя в голове небольшое такое отверстие, примерно в палец шириной, над правым виском. Через это отверстие начинают просачиваться голоса; ты не знаешь, кто нашептывает тебе все эти странные, замысловатые слова, и от этого немного страшно. Через это отверстие входят внутрь незнакомые краски и запахи, сквозняк приносит невидимые семена неземных растений, семена прорастают в твоей голове, расцветают, дают плоды. И его, это отверстие, никогда уже не заделать. Всегда будет слышно, и всегда будет страшно. К страху можно привыкнуть, со временем он превратится в привкус, легко искажающий обычные вещи. От него даже есть лекарство, но оно не помогает надолго. Нужно лечь очень близко к существу, которое любишь больше всего на свете, и тогда этот привкус уходит.
Читать дальше