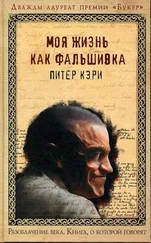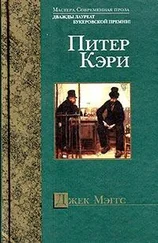Итак, мой брат СПАСЕН. Можно еще сказать — ОБРАЩЕН. Мы поехали туда прямиком с кёльнского вокзала и обнаружили две его лучшие работы друг на против друга в отдельном зальчике Музея Людвига.
Я, ЕККЛЕСИАСТ. Майкл Боун (Австралия), р. 1943. Дар Корпорации «Дай Ити»
ЕСЛИ УВИДИШЬ, КАК ЧЕЛОВЕК УМИРАЕТ. Майкл Боун (Австралия), р. 1943. Дар Корпорации «Дай Ити»
Поскольку я больше поднаторел в УХОДЕ ЗА ГАЗОНАМИ, невдомек мне было, что подобные откровения начнутся и в других местах, Господи Боже, Лондон, Нью-Йорк, Канберра, бедная мамочка, за пределами ее жизни, ее тайные молитвы всем напоказ, глухая ярость обнажена перед всем миром. Несчастный, битый жизнью газонокосильщик стоит перед своими РАБОТАМИ с диким взглядом и блуждающей улыбкой.
— Господи Иисусе, — пробормотал он, прочитав табличку с именем СООБЩНИКА МАРЛЕНЫ.
— Ты просто ничего не понимаешь, говорил он мне.
Но старина Заторможенный Скелет очень даже хорошо понимал. То было признание в любви от Марлены. Именно это она пообещала ему в тот день, когда он грозил ей насильственной смертью.
Нас сопровождал КУРАТОР СО СТЕПЕНЬЮ, и когда Мясник отыскал свой платок и высморкался, тот любезно спросил, не хотим ли мы посмотреть Лейбовица.
Мясник отвечал резко, почти грубо:
— НЕТ!
Что ж, сказал Профессор, я думал, у вас есть личный интерес. Мы приобрели нового Лейбовица у того же мистера Маури, который коллекционирует ваши картины.
— О! — сказал мой брат. — А! Да, конечно!
Он таращился на Куратора со Степенью так, словно к нему кто-то подкрался и воткнул рукоятку метлы ему в зад.
— Веди, Макдуф, [102] Ложная цитата из трагедии Уильяма Шекспира «Макбет» (V, 8). В пер. М. Лозинского: «Смелей, Макдуф!».
— сказал он.
И мы понеслись по галерее, трое крупных мужиков, большие ступни, хлопают подошвы по плитам Музея Людвига, добежали до изображения механического Чарли Чаплина, под которым было написано по-французски «LE CHAPLIN MÉCANIQUE». Мне показалось, я вот-вот ВЫПУЩУ ГАЗЫ, так что я держался подальше от картины, а Мясник, он только что не уткнулся в нее носом.
— Когда мистер Маури продал ее? — понадобилось ему знать.
— Нет, — отвечал Куратор со Степенью. — Речь не об этой картине. О вон той. Наше последнее приобретение.
Позади нас висела, Господи благослови, та страшная штука, что мой брат выкладывал на крышу в СоХо. С тех пор она превратилась в «LE GOLEM ÉLECTRIQUE». Я придержал язык, но видели бы вы лицо моего брата, словно погода в Мельбурне — и дождь, и солнышко, и град, улыбается, хмурится, фыркает своей сопелкой, Господи Боже, дальше-то что?
— За сколько?
— Три и две, — отвечал Профессор-тире-Куратор.
— Марок?
— Долларов.
Там под картиной стояла деревянная скамья, брат мой так и рухнул. Сидел тихо-тихо. А потом как захохочет, как зафыркает натертым до блеска носом. Поглядел на меня, на куратора, точно прикидывая, с кем лучше разделить эту шутку. Ни один не достоин. А потому, ни к кому в отдельности не обращаясь, он произнес:
— Лучшая вещь Лейбовица.
И направился в бар, здоровенный, толстый, вечно голодный, короткая лапа запихнута в карман, другая потирает веснушчатый, опаленный солнцем лоб.
Я хотел быть любимым, хотел, чтобы меня вспоминали по-хорошему, зачем же я обнажаюсь перед вами, а ведь я только это и делаю.
Музей современного искусства, Музей Людвига, «Тэйт» — не перечесть всех музеев, куда Маури передал мои картины, не проникнуть в закулисные сделки, сопутствовавшие этим дарениям. Но вскоре я поднялся, как феникс из пепла, из праха прежнего Мясника.
Моя спасительница? Убийца. Хуже всего: хотя в тот раз я ушел от нее, я — все тот же Бойн, черное и белое, столь отчетливо различавшееся тем утром в Нью-Йорке, размывается влагой, никак не подсыхает, двоится, колеблющийся переход от красоты к кошмару. Набухает под кожей, забивает мне рот.
В закопченных летних пригородах, прикованный бок о бок с Хью к грязной косилке «Викта», я по-прежнему, смерти и предательству вопреки, не избавлен от сложного, путанного прошлого. Подрезая цветочный, блядь, газон Бэнкстауна, я возвращаюсь в те дни до грехопадения, когда мы с милашкой вместе выпивали свет, пили «Лагавулин» со льдом, бродили рука в руке по Музею современного искусства, а по ночам ее прелестная голова утыкалась мне в шею, и я вдыхал жасминовый аромат ее щек.
Приличный человек бежал бы от нее в ужасе, но я любил ее и не перестану любить. Вот, наконец-то я признался. Она ушла — нет, не ушла, она шлет мне откуда-то весточки, через «Сотбиз» и Чикагский институт искусства. Дразнит меня или томится по мне? Никогда не узнать. Почем знать, сколько надо заплатить, если не знаешь, чего это стоит?
Читать дальше