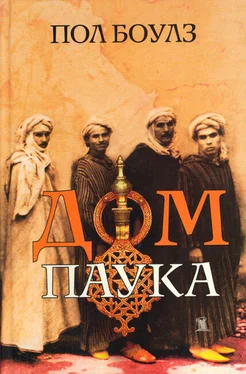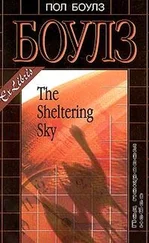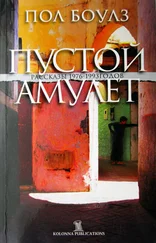Стенхэм хмыкнул, он уже устал реагировать на бесконечные подтрунивания Мосса.
— Необузданными? — повторил он, беря журнал и снова отступая в полосу солнечного света. — Необузданными? — В комнату доносилось чириканье воробьев, а сильные порывы ветра были пропитаны сладковатым запахом цветущего дурмана. Мосс сиял; он прекрасно знал все уязвимые места Стенхэма, но эти нежные места успели загрубеть: если Стенхэм и реагировал на шпильки Мосса, то исключительно из вежливости и крайне лениво. Это упрощало беседу: Мосс просто продолжал говорить, без устали выискивая новые ранимые места в характере своего друга.
Стенхэм любил Мосса за его таинственность и был уверен, что его приятелю доставляет огромное удовольствие играть роль кудесника, загадочного человека, всегда имеющего про запас тысячу самых неожиданных причуд. «Я простой бизнесмен, — жалобным тоном заявлял Мосс, — и мне никогда не понять тех безумных джунглей, в которые вы, американцы, превратили естественную среду своего обитания…» «Общаясь со мной, делайте скидку на мою непонятливость. Мне нужно объяснять буквально все. Ваша американская система нравственных ценностей столь запутана и фантастична, что совершенно недоступна моему нехитрому разумению».
Но иногда он выходил из роли и начинал искренне сетовать: «Все-таки англичане решительно невыносимы. Нельзя же всю жизнь жить так, будто у тебя запор. Мир прекрасен. Вы когда-нибудь были в Бангкоке? Полагаю, вам бы понравилось. Восхитительный народ…» «Единственное, что делает жизнь сносной, это возможность время от времени наслаждаться совершенством. И даже еще более — способность воссоздавать эти совершенные переживания во всей их полноте, любоваться ими как драгоценностями. Вы меня понимаете?»
Чтобы раздразнить его, Стенхэм напускал на себя серьезный вид и отвечал: «Нет, не думаю. Боюсь, совершенство меня не интересует. Ведь, по сути, оно всегда есть нечто исключительное, вне обыденной реальности. Я смотрю на жизнь по-другому».
«Знаю-знаю, — говорил в таких случаях Мосс. — Вы смотрите на жизнь с самой непривлекательной точки».
Стенхэм уже давно разгадал, что кроется за маской простого бизнесмена; как-то раз Мосс даже признался, что пишет книгу, но тем и ограничился, не уточнив, какого рода эта книга. А в другой раз, в конверте с довольно-таки беспредметным письмом, цель которого явно состояла в том, чтобы убедить адресата, что вторая часть послания вложена в последний момент, он прислал из Лондона подборку коротких лирических стихотворений, не слишком оригинальных, но достаточно изысканных, чтобы убедить Стенхэма в том, что автор с музой на «ты». «У него тоже рыльце в пушку», — любил повторять про себя Стенхэм.
Солнце в саду припекало, влажный чернозем словно покрылся испариной, источая сладкий, тяжелый, волнующий весенний запах. Старый Мохтар шел по дорожке, едва волоча по мозаичным плитам ноги в стоптанных бабушах. Всегда казалось, что чалма его вот-вот развяжется. Дело было не в том, что он небрежно одет; хвори и тяжкий труд высушили его круглое личико: распусти он чалму или завяжи потуже, вид оставался плачевным. Стенхэм всегда чувствовал себя неловко в его присутствии: вяло-покорное лицо Мохтара пробуждало затаенное чувство вины.
Мосс появился на террасе, поправляя темные очки, по обыкновению одетый так, словно собрался прогуляться по Пикадилли.
— Ну вот, я и готов, а вы? Тогда в путь.
Выйдя во двор, они посмотрели, на месте ли машина Кензи, но ее не было. Мосс нахмурился.
— Ага, значит, уехал. Что ж, придется добираться пешком. И давайте выберем дорогу покороче.
— Есть, по крайней мере, дюжина коротких дорог, — возразил Стенхэм.
— Только никаких лабиринтов, они так утомительны. Чем скорее мы доберемся, тем лучше! Нет, вы действительно на редкость тяжелый человек.
Стенхэм пошел впереди. Свернув налево, они оказались на улице, где пришлось пробираться среди осликов, нагруженных маслинами, которые везли в давильню.
— Что вы имеете в виду? Почему тяжелый? — Стенхэм никогда не мог понять, почему ему так нравится дразнить Мосса и слушать в ответ его ворчливые замечания: это была игра, которая могла длиться часами, причем Моссу отводилась роль наивного простака, постоянно жалующегося, что его разыгрывают, а Стенхэм изображал терпеливого, искушенного наставника; особую остроту игра принимала, если Стенхэм бросал прямое обвинение, скажем: «Зачем вы постоянно напускаете на себя этот дурацкий вид, будто вы не от мира сего? Чего вы этим добиваетесь?» Это делало игру особенно захватывающей, потому что Стенхэм говорил вещи, в общем-то недалекие от той истины, которую он мог бы высказать, если бы действительно хотел положить игре конец. Мосс прекрасно понимал это и знал, что Стенхэм это знает, так что игра продолжалась, непрестанно становясь все более сложной, тонкой, изощренной, занимая большую часть времени, которое они проводили вместе. Рано или поздно, думал про себя Стенхэм, наступит момент, когда Мосса будет уже не оторвать от этой затеи: все, что бы он ни делал или говорил, не будет выходить за рамки взятой на себя роли, слова и жесты будут принадлежать уже не Моссу, а этому нелепому персонажу, не имеющему ничего общего с человеком, нацепившим такую маску. Я подтолкнул его к этому, говорил он себе, но ведь и он с готовностью откликнулся на мое предложение. Он сам выбрал роль простофили. И теперь, как обычно, я его веду, а он притворяется, будто не знает дороги.
Читать дальше