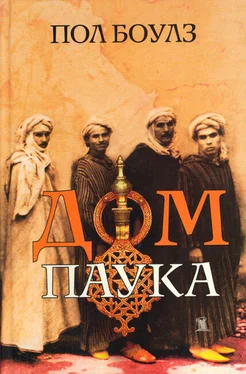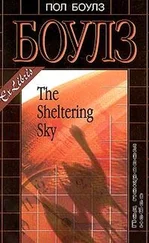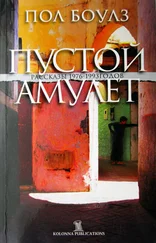Тут крылось какое-то противоречие, но Амар чувствовал, что оно было лишь малой частью куда большего и куда более таинственного противоречия, суть которого он не мог сейчас постичь. Если бы они убивали французов, он бы понял и бесспорно поддержал их, но мусульмане, убивающие мусульман — с этим он не мог согласиться. И не было никого, с кем он мог бы поговорить об этом: отец наверняка повторил бы то, что уже говорил тысячу раз: политика — ложь и все, кто впутываются в нее — джиффа , негодяи. Но французы непрестанно вели политику, направленную против мусульман, так разве мусульмане не имели права создать организацию, которая бы их защищала? Амар знал, что отец сказал бы «нет», что все в руках Аллаха, и так оно и должно быть, да и сам Амар знал, что, в конце концов, это правда, но в то же время — как мог молодой человек просто сидеть сложа руки и ждать, пока свершится божественная справедливость? Это значило бы требовать невозможного.
С того момента, как эта новая мысль взбудоражила его, работа уже больше не приносила прежнего удовольствия. Чтобы испытывать привычную радость, сознание его должно было быть полностью поглощено работой, а это было теперь невозможно. Амар чувствовал, что попросту тянет время, насильно заставляя его течь, заполняя часы бессмысленными движениями. Впервые он сознательно ощутил, что такое ход времени; подобное сознание может возникнуть, только если мысли человека не отражают напрямую того, что в данный момент происходит вокруг. И впервые он не смог заснуть ночью и лежал, уставившись в темноту, снова и снова пытаясь разрешить вставшую перед ним проблему, но тщетно. Случалось, что он не мог заснуть до трех, когда поднимался отец, чтобы идти в мечеть, совершать омовения и молиться, и только когда отец уходил и в доме снова воцарялась тишина, Амар мгновенно впадал в сонное забытье.
В одну из таких ночей, когда отец закрыл за собой дверь и дважды повернул ключ в замке, Амар встал и потихоньку вышел на террасу. Мустафа стоял там в темноте, облокотившись на перила и глядя на безмолвный город. Амар недовольно заворчал, ему не понравилось, что брат вторгся в то, что он считал своей ночной вотчиной. Мустафа проворчал что-то в ответ.
— Ah, khai, 'ch andek? — спросил Амар. — Что, тоже не спится?
Мустафа признался, что тоже не может уснуть. Виду него был жалкий.
Амар и помыслить не мог о том, чтобы довериться Мустафе, но все же с нелепой, отчаянной надеждой в голосе спросил:
— Но почему?
Мустафа сплюнул через перила и ответил лишь, когда услышал, как плевок шлепнулся о землю.
— В моттуи пусто. Не на что купить кифа.
— Кифа? — Амару частенько случалось курить с приятелями, но трубка кифа значила для него куда меньше, чем сигарета.
— Я всегда выкуриваю на ночь несколько трубок.
Раньше Амар такого за братом не замечал. Когда им приходилось спать в одной комнате, ни о каком гашише и речи не было, и Мустафа спал очень крепко.
— Ouallah [35] Ты серьезно? (араб.)
? Неужели тебе никак без этого не заснуть? Неужели сначала обязательно надо покурить?
Но на этом порыв доверительности у Мустафы иссяк, он снова стал самим собой.
— Ладно, а ты-то что здесь делаешь? — хрипло произнес он. — А ну, марш в постель.
Амар нехотя повиновался, теперь пищи для размышлений у него прибавилось.
КНИГА ВТОРАЯ. ГРЕХОВ БОЛЬШЕ НЕТ
Ты говоришь мне, что едешь в Фес.
Но если ты говоришь, что едешь в Фес, это значит, что ты не едешь туда.
И все же мне случилось узнать, что ты едешь в Фес.
Зачем же ты солгал мне, своему другу?
Марокканская поговорка
Рамадан — месяц тягучих, бесконечных дней без еды, питья и сигарет — промелькнул незаметно. Вечера, бывшие прежде сплошным праздником, когда медина сияла огнями, лавки не закрывались до зари, когда улицы были запружены молодежью и взрослыми мужчинами, радостно гулявшими по городу, пока не наступало время очередной трапезы, на сей раз были безрадостными и унылыми. Правда, раиты [36] Музыкальный инструмент, похожий на гобой. В статье «Музыка Северной Африки» (1942) Боулз писал: «Это идеальный инструмент для игры на улице, гобой с таким резким звуком, что его слышно далеко в округе, и в то же время он предназначен для нежнейших мелодий».
, как и прежде, звучали с минаретов, по-прежнему слышалась барабанная дробь, а бараньи рога гудели, призывая сонный люд вкусить вечерней пищи, но они уже не доставляли удовольствия тем, кто прислушивался к ним. Пропало само ощущение Рамадана — гордости, проистекавшей от умения подчинить себя суровой дисциплине, знаменующей победу духа над плотью. Люди соблюдали пост автоматически, пассивно, позабыли обычные шутки о том, что одежда вдруг стала всем великовата, не считали дней, оставшихся до пира, которым завершится тяжкое испытание. Поговаривали даже, что многие члены Истиклала не соблюдают Рамадан, нагло, среди бела дня рассиживая в ресторанах Виль Нувель, но, по общему мнению, это была французская пропаганда. Затем пошел гулять слух о том, что не будет Аид-эс-Сегира — праздника, знаменующего конец поста. Слух набирал силу, пока не стал достаточно весомым, чтобы считаться установленным фактом. И действительно, когда этот день настал, вместо улиц, полнящихся людьми в новых одеждах — поскольку в этот день в отличие от всех прочих дней в году каждый должен был надеть как можно больше новых вещей — ранние прохожие увидели сотни уважаемых горожан, облаченных в самые поношенные костюмы и джеллабы; многим же из тех, кто не поверил слухам, пришлось закоулками поспешить домой, чтобы переодеться, прежде чем вновь появиться на людях. Новая одежда мгновенно превращалась в лохмотья — для этого хватало нескольких умелых взмахов бритвой, но больших потасовок не было. Так, бесславно, месяц Рамадан уступил дорогу следующему месяцу — Шавваль.
Читать дальше