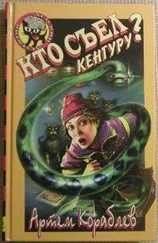Но и не пикнешь ведь; даже не осадят, Хайдик не цыкнет: заткнись, с чужим мужиком лежала (это бы еще можно понять), нет, мимо ушей пропустят, пересмехнутся эдак свысока: ну, понесла, — известно, БАБЬИ ВЫТРЕБЕНЬКИ, язык у бабы проворней ума, ну и мелет, потому как ВСЕГО-НАВСЕГО баба; подумаешь, высшие существа, в лучах своего мужского превосходства купаются, велика заслуга, случайно мужиками родились. И с кем же себе позволяют, с ней, знаменитой «Мамулей Варгулей», да она в уйпештской [2] Уйпешт — пригород Будапешта.
забегаловке одна весь тамошний сброд в руках держала, всех этих алкашей расхристанных, хулиганистых волосатиков, чумазых угольщиков и подонков, отбывших срок, окоселых люмпенов, даже вышибалы не требовалось, сама буянов выставляла, участковый и тот под ее дудку плясал, делал, что велела, вся пьянь стояла у нее по стойке «смирно», наливала, кому хотела, место свое знали, а кто под юбку лез, того по шеям (если не нравился); тогда небось не САМКОЙ была, тогда — интересно! — никому почему-то в голову не приходило низшим существом ее посчитать, тогда сникшие венцы творения сами перед ней ногами заплетали: «Мамуля Варгуля, да мы всей душой, ты нас знаешь, позволь тебя на секундочку».
И когда Вукович поднялся, собираясь идти, а Хайдик не пустил, Вукович сказал: он и не уйдет, не пожав его честную руку, ибо Хайдик — лучший из всех, с кем ему доводилось встречаться, и протянул ему руку через стол (Йолан только присвистнула, — давни муж всерьез эту лапку, что останется, шлепочек колбасного фарша), но Хайдик, сбычась и хлопая глазами, сразу и не понял, чего хочет Вукович, и того понесло; дирижируя над столом, принялся он ораторствовать: вот это человек, вот настоящая внутренняя интеллигентность и твердость духа, их сразу видно, как жалко, что в столь неудачных обстоятельствах познакомиться пришлось, он просто сгорает со стыда, перед таким человеком провинился, пускай и не было ничего такого (Хайдик помешал), все равно чувствует себя преступником, ведь с дурным умыслом пришел, но Хайдик пощадил, хотя одним ударом мог череп раскроить, и за то он его глубоко уважает как человека сильного, мужчину С ГОЛОВЫ ДО ПЯТ — только мужчина, сознающий свою силу, может проявить такую гуманность, вот и хочется руку пожать человеку такому замечательному. И когда наконец Хайдик обменялся с ним рукопожатием, Йолан показалось, будто чело ее супруга засияло, как загородный лампион, настоящий маленький нимб озарил его, скажи ему Вукович сейчас, что он умнее Эйнштейна, красивей Алена Делона, он и тому бы поверил.
Ей (тогда) решительно понравилось, как ловко выпутался крошка Вук из затруднительного положения, она не вдруг и сообразила, что теперь, пожалуй, не так легко будет поладить со своим Хайдиком — после того как Вукович наплел столько про его доблести, но понадеялась, он хотя бы откланяется наконец, добившись подавляющего перевеса, а мужа она как-нибудь уломает, не приняв в расчет одного: Вукович почувствовал себя в ударе, в своей стихии (неизвестного ей пока рода) и вместо того чтобы убраться, принялся их мирить, и Хайдик, ее Хайдик, не к черту в пекло его послал, а заныл, не может же он у жены прощения просить, коли не виноват, и Йолан, сперва почти растроганная Вуковичевой рыцарственностью, вскоре догадалась, какая здесь подлая комедия затевается, ведь каждое его слово, призванное якобы смягчить Хайдика, — скрытый выпад против нее. Ведь человек сильный, мужчина С ГОЛОВЫ ДО ПЯТ (так, аккуратным экивоком, начал Вукович), может себе позволить быть слабым, даже нежным, это слабый не может на такую роскошь пойти, вынужден оставаться сильным, держаться, такова уж его участь (и трагедия его собственной, Вуковича, жизни). «Ой, сейчас разревусь», — вставила Йолан беззаботно, не ведая еще, куда гнет Вукович, и посмеиваясь в душе над тем, как развесивший уши Хайдик растет, наверно, в собственных глазах (того гляди, потолок прошибет), но тут Вукович подъехал к вопросу с другой стороны, заметив, что на женщин и обижаться нельзя, это недостойно мужчины, женское сердце склонно К ИЗМЕНЕ И ПЕРЕМЕНЕ, как сказал поэт, и правильно, испокон века так идет, женщины лживы, коварны и вероломны, играют мужчиной, пользуясь мужским постоянством и благородством, и понятно: слабый пол, хитрость — всегда оружие слабых.
— И твое тоже, крохотуля, — попыталась ввернуть Йолан.
Но Вукович не ответил, обратив на Хайдика горестно красноречивый взгляд (что, мол, я говорил?), взгляд скорбный и невинный, как у новорожденного мышонка, которого обвиняют, будто он кошку съел. Йолан попробовала его уличить в противоречиях и фактических неточностях, — прежде всего про «измену и перемену»: не «поэт сказал», а герцог мантуанский поет в «Риголетто», кроме того, если трагедия слабых — заставлять себя быть сильными, хитрость не может быть их оружием, но даже не договорила, поняв: любые ее, самые неопровержимые аргументы будут сочтены здесь «бабьими вытребеньками». Хайдик соизволил ее заметить, только проголодавшись.
Читать дальше