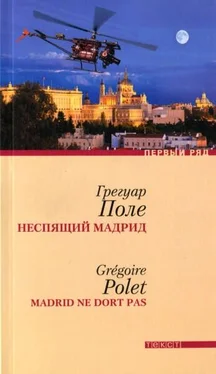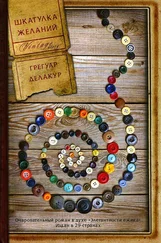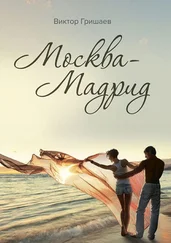Молодой человек продолжает наблюдать за Глорьетой; ему не хочется оборачиваться и отводить взгляд, и он предпочитает говорить громче, очень громко, чтобы его услышали внутри.
— Я опять видел старую бродяжку.
— Что?
— Я опять видел старую бродяжку с мешком.
— Да?
— Она ходит по кругу, правда, нарезает круги, остановится, присядет на скамейку, посидит иногда полчаса и идет дальше, всегда в одном направлении, против часовой стрелки, останавливается, идет, и все по кругу. Сверху — захватывающее зрелище. Надо бы как-нибудь понаблюдать целые сутки, посмотреть, удостовериться, но я убежден, что она так и кружит весь день. Это наверняка патология или мания, понимаешь?
— А где, по-твоему, она ночует?
— Что?
— Я говорю: где, по-твоему, она ночует?
— Не знаю, но не исключено, что здесь же и спит, надо посмотреть.
— Думаешь, она спит на улице?
— Нет, это вряд ли. Скорее живет в какой-нибудь трущобе. В этом городе такого насмотришься…
— Или в хосписе.
— Если в хосписе, значит, на ночь она уходит из круга, потому что хосписа на Глорьете нет, была бы вывеска, а я ничего такого не видел. Нет, я думаю, вполне возможно, что у нее есть своя комната, знаешь, этакий вечный жилец без доходов, не платит с незапамятных времен, его не трогают, предоставляют гнить в помещении, на котором давно поставили крест. Нищета, что тут скажешь.
Эдвард меняет объектив на своем фотоаппарате и устанавливает огромный конический хобот зума. Наводит его на старуху, совсем близко видит стоптанные тапки, мешок, сальные волосы, неторопливо следует за ней. Она идет, и видоискатель прицельно изолирует ее от всего мира, фокусирует, как луч, как прожектор ПВО. Она проходит — в который раз сегодня? — за газетным киоском, Эдвард теряет ее на минуту, ждет с другой стороны, и она выходит, все тем же мерным шагом, шаркая ногами, останавливается, кладет мешок на землю и задумчиво сует руки в карманы потрепанной куртки. Эдвард с отвращением представляет, какая там помойка. Она роется в карманах, стоя неподвижно, смотрит прямо перед собой, ни на что не глядя, вероятно, только пальцы шевелятся там, в карманах, двигаются старые пальцы, неухоженные ногти погружаются в толщу всевозможных отбросов, которые от времени, нищеты и одиночества осели, точно ил, на дно ее карманов. Она нагнула голову, все так же не обращая внимания на поток прохожих, который обтекает ее, словно вода рифы, смотрит на свою руку, разжимает пальцы, и на ее ладони — Эдвард быстро поворачивает зум, наводит, — на морщинистой ладони в коричневых табачных крошках, прилипших к потной коже, когда она рылась в карманах, — конфетка, завернутая в фантик, конфетка с двумя бумажными хвостиками, похожими на крылья бабочки. Эдвард нажимает кнопку — снято. Она разворачивает конфетку, сует ее в рот, бумажку в карман, берет мешок и продолжает круг с того места, где остановилась.
Не отрывая глаз от видоискателя, Эдвард поворачивает зум, и теперь в кадре снова старуха. Вот она перед первой витриной «Коммерсьяль», ее медленная поступь рельефна на фоне большого, очень четкого отражения, где, по логике вещей, должен быть и сам крошечный Эдвард и за которым сквозь прозрачное стекло видны лампочки люстр и первый ряд посетителей. Эдвард делает снимок. Не сворачивая по тротуару, как думал Эдвард, старуха продолжает свою безупречно прямую траекторию до входа в метро, с трудом спускается по лестнице, ступенька за ступенькой, и скрывается внизу.
— Еще два отличных снимка!
— Что?
— Еще два отличных снимка!
— Опять старуха?
— Ага, опять она.
Эдвард садится на табурет на балконе и кладет фотоаппарат на колени. Достает пачку табака, сворачивает сигарету, закуривает, выпускает дым, расслабляется, откинув голову. Когда он затягивается, глаза его полузакрыты.
— Но тут еще одна странность.
— Что?
— Я говорю: еще одна странность.
— Да нет, я слышала, я спрашиваю: что, какая странность?
— Один из телефонных рабочих стоит в очереди к лотерейному киоску, уже который раз я его там вижу, такое впечатление, что он это делает ради удовольствия.
— Отлынивает от работы, наверно.
Оглушительно ревет автомобильный гудок, и вся огромная пробка на Глорьете разражается немыслимым концертом. Рев заглушает слова гида, звучащие на разных языках в одноразовых наушниках с пенопластовым защитным слоем, хотя пассажиры всякой твари по паре — экскурсионного автобуса «Мадрид — Вижен» до предела усилили звук. Светловолосая женщина с прической «конский хвост» на переднем сиденье снимает наушники и, заткнув уши, говорит мужу через головы двух их детей, старший из которых перешел на восьмую стадию электронной игры под зачарованным взглядом младшей сестренки: «Южане!»
Читать дальше