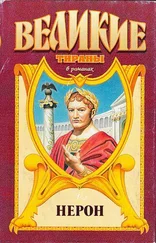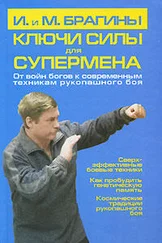— Что?! Это в моем доме! — задохнувшись, проговорила хозяйка. — Это в моем-то… из милости… это мне… я из милости…
Она все повторяла «из милости», будто слово каким-то образом завязло во рту и никак не пропускало столпившиеся сзади, лезущие друг на друга, сбивающиеся в ком, злые, обидные и долженствовавшие бить наотмашь слова. Она еще раз повторила «из милости» и больше не могла говорить.
— Вы про это бросьте, — спокойно сказала Глафира. — А Катерину больше трогать не дам.
Хозяйка больше такое выдержать не могла, сил у нее совсем уже не было, а спокойный и жесткий голос Глафиры был как преграда, которую не перейти, хоть головой до последней невозможности бейся. И хозяйка, по дороге уронив стул, почти выбежала из комнаты; за ней, согнувшись и совсем неслышно, юркнула в дверь старуха-родственница.
Хозяйка в своей комнате оставалась до вечера и к ужину тоже не вышла. Не поздно возвратился в тот день Федор Дмитриевич, сидел за столом один. Старушка-родственница, вышедшая было в столовую с пустым подносом в руках, ойкнула, замерла на мгновение, и лицо ее сделалось таким, словно она увидела что-то страшное, — задом, задом — скрылась в коридоре. Федор Дмитриевич посидел еще в задумчивости, поковырял вилкой в тарелке, потом медленно поднялся, оглядел комнату и, что-то невнятное пробормотав себе под нос, пошел в комнату жены.
Объяснение с женой было коротким, но бурным: голос Федора Дмитриевича (который, впрочем, почти никогда голоса не повышал) был слышен через столовую в коридоре, где, прижавшись к стене, стояла, замирая от каждой возвышающейся ноты крика, старушка-родственница, и поднос, который она так и не отнесла, дрожал в ее руке и, касаясь стены, тихонько позвякивал; голос хозяйки доходил сюда раза только два или три, но ничего разобрать было невозможно, потому что состоял он единственно из всхлипов.
Потом дверь распахнулась, и хозяин, появившись на пороге, сказал еще громко, внутрь комнаты: «А я сказал — будет жить, а если нет, то и ты не будешь!» — и, взявшись за ручку, с силой захлопнул дверь.
Он прошел в свой кабинет, и были долго слышны оттуда его тяжелые шаги. Потом шаги смолкли, некоторое время было тихо; но вот открылась дверь, бесшумно затворилась, шаги в коридоре стали стихать, потом заскрипели ступени лестницы, ведущей в «кельюшку» Глафиры.
После того дня внешне как будто ничего особенно не изменилось (разве что Глафира перестала спускаться к обеду; но теперь и обеда-то как такового не было, потому что и хозяйка велела приносить еду в свою спальню и ела там со старушкой-родственницей при закрытых, что называется, дверях), но жили теперь открыто «двумя мирами»; в редкие только дни, когда собирались немногочисленные гости, все домашние, включая и Глафиру, сидели за столом, а Федор Дмитриевич достаточно благожелательно, хотя и со сдержанностью, обращался к жене, и та ему тихо отвечала, но, кажется, никогда не глядела в глаза.
Однажды поднявшись к Глафире, Федор Дмитриевич застал там Катерину. Катерина очень смутилась неожиданному приходу хозяина (она приходила к Глафире, когда его не было дома), встала и хотела выйти, но Федор Дмитриевич остановил ее с ласковостью: «Сиди, сиди, ты нашему разговору не помеха». И как Катерине ни хотелось уйти, как ни неловко ей было, ослушаться она не посмела и осталась. Ничего серьезного Федор Дмитриевич тот раз не говорил, а так: о том, о сем, о десятом — но поглядывал часто и внимательно на сидевшую с опущенной головой Катерину.
Потом такой неурочный приход повторился еще раз, потом еще раз, и казалось, что Федор Дмитриевич нарочно выбирал такое время, когда бы его не ждали. И всякий раз Катерина хотела уйти, и всякий раз он оставлял ее. Порою он входил озабоченный, говорил сестре о затруднениях в делах, что вот и самому ему так трудно иногда бывает, что кажется — пропади она пропадом, такая жизнь. Он качал головой, оглядывался на Катерину; та сидела замерев и глаз поднять не могла.
Как-то зимой уехал Федор Дмитриевич в Москву и отсутствовал более месяца. И в один из дней его отсутствия, оставшись одна в своей комнатке под лестницей и раздевшись уже ко сну, почувствовала вдруг Катерина, как что-то такое большое и плотное подкатывает к самому ее горлу, и увидела она Федора Дмитриевича, как он в последний раз приходил к сестре, услышала его чуть с хрипотцой голос, увидела, как ровно лежат друг к дружке колечки его бороды, и — испугалась Катерина, а комок уже подпер к самому горлу, и не было сил бороться с собой, и все ее тело сжалось, и прошла по телу дрожь, и в этой дрожи было что-то страшное, идущее извне к ней, и что-то сладкое, идущее из самого ее нутра. И она, едва сдерживаясь, успела ухватить подушку и плотно, что было сил, прижала ее к лицу.
Читать дальше