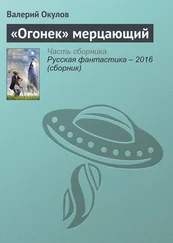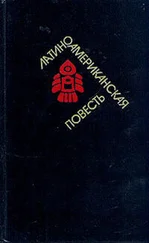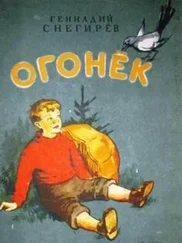— Теперь легко говорить, что нет.
— Поверишь ли мне, если я скажу, что, по сути, все мои выпады против него были провокацией, мне хотелось посмотреть, решится ли он быть самим собой, хватит ли у него сил исполнить то, чего он на самом деле хотел? Ты мне веришь?
— Нет. Я тебе не верю. И должна предупредить, тебе будет нелегко меня убедить, будто ты был примерным отцом.
— А я и не собираюсь. Должен признаться, что другой сын, Уго, не очень меня волнует.
— Не волнует, потому что еще не покончил с собой.
— Глория, что с тобой происходит?
Когда он приподнимает голову, чтобы посмотреть ей в глаза, она отмечает, что Будиньо постарел лет на десять. Но не из-за самоубийства Рамона. Просто за последние десять лет он постарел на десять лет. Только раньше она не замечала. Теперь заметила. Она связана со стариком, с омерзительным стариком, у которого через несколько дней после гибели сына хватает цинизма чуть ли не оправдывать себя, разыгрывать трогательный спектакль непонятой отцовской любви. К черту его.
— Глория, что с тобой происходит?
— Я сыта по горло.
Он не спрашивает — чем. Он просто опять опускает голову на подушку. Засунув руку под расстегнутую сорочку, медленно чешет грудь. Она подходит к комоду, чтобы раздавить окурок сигареты в пепельнице венецианского стекла.
— Ты хочешь сказать, что уходишь?
— Именно так.
— Ты считаешь, что хорошо делать это теперь, в такую минуту?
— Я не намерена обсуждать мое решение. Мне плевать на то, хорошо это или дурно. Я просто ухожу.
— В такую минуту, когда я больше всего в тебе нуждаюсь?
— Ты не нуждаешься ни в ком. При любых обстоятельствах ты нуждаешься в Эдмундо Будиньо, а он с тобой. На здоровье.
Теперь он скребет себе грудь обеими руками, но все так же медленно. Он снова сжимает губы, и в углах рта образуются две глубокие морщины. Глория отводит глаза.
— Крысы бегут с корабля? Так?
Глория невольно вспоминает Хиральди, своего товарища по факультету, который всегда перевертывал избитые фразы. Смеясь, Хиральде говорил: «Корабли покидают крысу». В эту минуту тишины он пытается прочитать ее мысли. Она улыбнулась, но его этим не обмануть. Он знает, что она улыбнулась своим мыслям.
— Гибель Рамона для меня страшный удар. Ты не веришь?
— Верю.
— И это тебя не волнует?
— Нет.
Будиньо глубоко вздыхает. Зуд утих. Одна рука опять безвольно падает вдоль бедра, другая лежит на животе. До вчерашнего дня Глория верила, что самоубийство Рамона для него и впрямь страшный удар. Но нынче утром, раскрыв газету и прочитав редакционную статью, она увидела, что его писания полны тем же лицемерием, тем же ядом, тем же презрением. Да, возможно, гибель сына для него страшный удар, у него не узнаешь, но он все же держится по-прежнему, ведет прежнюю свою линию, цель которой — устрашать, развращать, разлагать. Десять минут назад он казался искренним, говорил как будто откровенно — насколько может быть откровенен Эдмундо Будиньо. Но теперь Глория замечает, что он старается извлечь выгоду из своего положения. Даже встревоженное выражение лица-не более чем деланная гримаса. И весь его облик ей странен. Он мерзок, он бесчестен, это так, но он утратил силу. Он уже не внушает страха. Бот оно что. Наконец-то Глория поняла. Этот старик уже не внушает страха.
— Напрасно.
— Что — напрасно? Что твой сын покончил с собой? Что я от тебя ухожу? Что же, говори наконец.
— Все напрасно. Эта страна — сплошная гниль. Доказательством служит то, что ни у кого здесь не хватило духу меня убить. Запомни мои слова. Если когда-нибудь кто-то меня убьет, тогда, возможно, для этой страны еще есть выход, есть надежда на спасение. Тоже не безусловная надежда, но она по крайней мере есть. Если же, напротив, я спокойно умру в своей постели, в присутствии моего врача — остолопа, сына-вертопраха, красоток невесток, умника внука, ворона душеприказчика, а также сверкающих глаз предполагаемых моих наследников, если я умру спокойно от мозгового инсульта или сердечного инфаркта, это будет означать, что стране крышка, что она навсегда утратила способность реагировать.
Теперь Глория убеждена. Да, он уже не внушает страха. Скорее он сам боится, хотя не говорит, никогда не решится сказать. Слова у него в основном те же, что всегда. И в редакционной статье, и в этих рассуждениях. Но прежде они были полны силы, неодолимой силы, которой теперь у него нет. Теперь это пустые слова. Бедняга Рамон, думает Глория, покончил с собой, возможно, из трусости, бросился с десятого этажа, чтобы не убивать отца, но в любом случае месть свою он свершил. Потому что его смерть сделала Эдмундо Будиньо уязвимым. Не исполненная Рамоном угроза породила множество других угроз его отцу. Спасибо за огонек.
Читать дальше