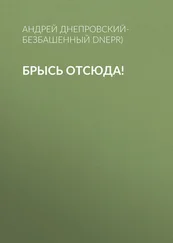А беда уже была на расстоянии вытянутой руки — от меня, слава Богу, не от Леночки.
Это было в самом конце девяносто седьмого года. Точной даты я не помню, потому что во время наших двух первых встреч с Костей никакого значения я им не придала. Игорь Иванович взял меня с собой на переговоры к инвестору. Это были трудные переговоры. Мы вошли в огромный Костин кабинет, а он был вице-президентом этой инвестиционной компании, и я помню, что за неоправданно большим дубовым столом увидела незапоминающегося нахмуренного человека с немного одутловатым лицом. Это потом оказалось, что в Косте под два метра роста, что у его черных глаз есть тысяча выражений, а у лица поразительная способность вспыхивать, гаснуть, опять освещать собой все вокруг, а от неожиданной вспышки обиды или гнева буквально сотрясаться, даже как будто идти мелкими трещинками. Но тогда, сидя за своим огромным столом, он вообще не смотрел на нас. Листал документы, ронял ни к чему не обязывающие фразы, а претензии нашего президента выслушивал, демонстративно отвернувшись к окну.
Наша следующая встреча протекала уже в присутствии их юриста. И разговор главным образом шел о неизбежности судебного разбирательства. Я помню, что говорила спокойно, уверенно, и помню, что на этот раз он внимательно смотрел на меня, что-то записывал, брал калькулятор, делал быстрые подсчеты, но вместо ответа на прямо поставленный вопрос или испытующе на меня смотрел, или отворачивался к окну. Это была манера, которую мог себе позволить только очень полновластный человек. Вот и все, что я тогда про него подумала.
Когда наше дело рассматривалось в арбитражном суде, он пришел на процесс вместе с юристом. И мне показалось, специально, чтобы потянуть время, не привез с собой самого элементарного — доверенности, — из-за чего слушание было отложено, после чего он подошел ко мне в коридоре, как-то по-особенному, просяще заглянул в глаза и вдруг предложил пообедать с ним, но я себе не могла это позволить, прежде всего из соображений профессиональной этики. И после этого, я помню, мы оба очень смутились.
Все три недели до следующего заседания я если и вспоминала о нем, то только в том смысле, что было бы хорошо, если теперь от них придет другой представитель. Но, конечно, опять пришел Костя. Он очень красиво и артистично выступал, оказалось, что их президент заключил договор с нами за неделю до своего переизбрания и сделал это явно вопреки интересам компании, переживающей в тот момент далеко не лучшие свои времена… В доказательство Костя зачитывал цифры из их балансовых документов, причем так вдохновенно, как будто это были стихи. И читал он их главным образом мне. Понимаете, так не должно быть между абсолютно чужими людьми, а тем более — состязающимися сторонами, но у меня было чувство, что я смотрю в глаза человеку, которого знаю всю жизнь, от которого у меня нету тайн, потому что он видит меня насквозь — я сама впускаю его в себя, потому что мне нечем от него защититься. И еще: выдвигая свои аргументы, он как будто бы чувствовал то же, что чувствую я, и смотрел на меня с испуганной бережностью.
Я этого не вспоминала столько лет. Боже мой, а ведь это именно так и было.
Слушание отложили на две недели. А надо сказать, что этот процесс даже Игорь Иванович считал: нам не надо проплачивать, наша правота была слишком очевидна. И еще поэтому я говорила себе: Алла, этот человек — просто тонкий психолог, в жажде выиграть дело он чисто инстинктивно подпускает мужских флюидов. Судья тоже женщина, откуда ты знаешь, может, он так же конфиденциально смотрит и на нее? Все две недели я это, можно сказать, себе внушала. Но к тому, что я чувствовала, в каком смятении жила, это не имело никакого отношения.
Это никому нельзя объяснить. Даже самой себе. В той обыденной жизни, жизни без Бога, я приняла случившееся за чудо. В моей жизни никогда ничего подобного не было. А это чувство оглушительной близости, понимаете, оно для меня стало вдруг очень дорогим. Мне стало казаться, что этому человеку я смогу рассказать о себе все и он поймет меня как никто. Или наоборот, я смогу с ним рядом молчать, а он будет меня читать по глазам, по улыбке, как открытую книгу, читать и радоваться — я не знаю чему… тому, что между нами нету никаких преград. Но потом, когда восторг от этого проходил, мне делалось страшно. Страшно, что я никогда его не увижу. Или просто что восторг не вернется.
Понимаете, когда теперь я знаю, что такое религиозный восторг, как звенит, хрустальным колокольчиком звенит и ликует намоленная душа… мне жутко произнести это, но ведь можно сказать, Иоанн Лествичник это за меня уже произнес: ты молишься, а молитва твоя корнями уходит в твою плотскую страсть, в твою тоску по прелюбодеянию.
Читать дальше