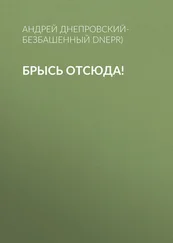И вот теперь я ехала с ней в машине на Малую Бронную, в представительство немецкого Фонда. С валидолом, нитроглицерином и на всякий случай нашатырем. Ничего этого, к счастью, ей не понадобилось. Растерянная в машине, испуганно озирающаяся в коридоре, войдя в кабинет, бабушка преобразилась. Из нахохленного воробушка вдруг превратилась в орлицу. Но ее старенький черный сарафан и под ним моя двадцатилетней давности кофточка, белая ажурная, из акрила с желтым пятном на рукаве, а еще шерстяные чулки (она так и не сумела привыкнуть к колготкам), подобранные круглыми резинками, — один из них вдруг предательски пополз вниз, — и все это среди по-западному безукоризненного офиса… Это щемящее чувство словами не выразить, может быть, плачем скрипки, еврейской скрипки. А бабушка несмотря ни на что любезно кивнула переводчице, чинно поздоровалась с немцем. Он ответил, слава Богу, по-русски, хотя и с заметным акцентом. Предложил ей стул, и экзамен начался.
Сначала немец спросил, носили ли узники минского гетто звезду Давида. Бабушка ответила, что нет, они нашивали на одежду так называемые латы — круги, которые вырезали из старых чулок и штанов. Второго вопроса я не запомнила. Я зачем-то нащупывала в сумке валидол. Сколько бы я ни говорила тебе про могучие бабушкины гены, о чем и в самом деле ты не должен никогда забывать (и значит: не бояться выйти во двор, когда Белякович выгуливает там своего ройтвелера! мало ли, что было на дискотеке? он такой же трус, как и ты! да никогда в жизни он на тебя его не спустит!) — сколько бы ни занималась подобной духоподъемной ерундой, сама я почти наверняка при первом же косом взгляде бросилась бы обратно, в гетто, как это сделала Люба. И точно так же, как Люба, которую весть о начале войны застала на Кавказе, на студенческой географической практике, стала бы пробиваться в Минск, куда поезда с гражданскими уже не ходили: Люба уговорила какого-то военного, и он всю дорогу продержал ее у себя под полкой, — потому что в Минске был ее любимый, русский парень двухметрового роста по кличке «Миша, достань воробушка». Потому что характер — это судьба. Извини, что повторяюсь: ужас хочется заклясть, заговорить любой формулой — первой, которая приходит на ум. Эта все-таки не самая глупая.
Последний третий вопрос, заданный бабушке, касался ее родных. Она назвала имена, приблизительное время их гибели, способ умерщвления. Только тут я узнала, что в гетто погибли и три ее двоюродные сестры.
Переводчица стремительно печатала имена, даты… Немец, бабушкиными познаниями явно удовлетворенный, сказал, что почти уверен: решение по присуждению ежемесячного компенсационного платежа будет положительным, но окончательный ответ нам пришлют почтой. Бабушка поднялась. Я шагнула к ней, чтобы взять ее под руку. Она же вдруг вскинула подбородок. Скрюченные подагрой пальцы смяли, потом развернули носовой платок и он, перекрахмаленный, до блеска разглаженный, хрустнул. Или по ветхости треснул? Что-то происходило, чего я не могла понять. Немец как будто тоже занервничал. Повисла странная пауза. Бабушкин локоть выскользнул из моей руки. Она наклонилась и, найдя под подолом сарафана резинку, подтянула ее вверх вместе с чулком. А потом, распрямившись, вдруг шагнула к столу переводчицы: «Я хочу, чтобы вы записали следующее!»
Переводчица спросила у немца глазами: что делать? Немец кивнул и на всякий случай стал мягкой салфеткой протирать свои японские очки, раньше я про такие только слыхала: легкие-легкие, с тонкой и очень гибкой оправой, ее еще называют «леской» — говорят, они стоят баксов пятьсот.
Ну вот, Артюша, мы и подобрались к тому, ради чего я села писать тебе это письмо — так сказать, к новости, от которой мне все еще некуда деться.
Бабушка диктовала, переводчица послушно выстукивала.
На сохранившейся у нас фотографии Жанночке около полутора лет. Взрослые позируют, а моя маленькая тетя на руках бабушки Лизы изогнулась, голова чуть повернута, чуть закинута, волосики прилипли ко лбу, на ней свитер ручной вязки, должно быть, она уже успела в нем набегаться, теперь ей жарко…
В сентябре сорок второго Жанночке исполнилось три. Где-то около этой даты бабушке удалось вывести ее из гетто. До переправки на большую землю неделю, максимум десять дней, девочка должна была жить у Вали. Но ребенка в подполе не удержишь. И Жанночка носилась по квартире, носилась по общему с соседями коридору, гоняясь за двумя маленькими Валиными детьми, Светой и Олегом. Бегала за ними и весело кричала: «Рихтер идет! Рихтер идет!» Все дети, которых она знала до этих пор, именно так играли друг с другом. Рихтер был начальником минского гетто.
Читать дальше