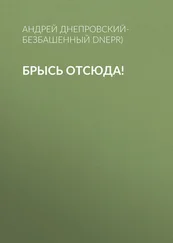— Я говорю Коле: сынок, ведь от сглаза верное средство есть — я научу и слова напишу на бумажке. Вы только внученьку мне покажите!
— А я, Таюшка, на ветеринара хотел. Парнишкой был, а понял: животные — они больше нашего мучаются. Больше! Человек надеждой силен, спасение у него впереди маячит, причины, следствия, способы разные… А у зверя что? Одна нынешняя мука без конца и края.
— И у человека так бывает. Я знаю, бывает.
— Не бывает, Таюшка. Не должно бывать.
— А если не должно, отчего ж бывает?
— Слушай, я ведь волынку в город вчера возил! Срочно, торопили, срочно. А сами на гастроли уехали.
— Сволочи.
— Нет, они отрешенные. Я сам такой. Я понимаю.
— Ты их лучше. Ты всех лучше!
— Нет, что всего обидней? Вот если бы меня Эдуардом звали, ты бы меня как звала?
— Эдуардом.
— А они бы: Эдгаром, Эльбрусом или Эверестом! Им разницы нет.
— Дураки.
— А ну их! Любушка, обними меня тесней!
— Припоздалый ты мой!
И даже если, уткнувшись в него холодным носом, она принималась тихонько всхлипывать, что-то возвышенное и непоправимое (должно быть, это и было счастье) полнило душу через край. Оттого ли, что дома, глаз с двери не сводя, ждала его лучшая, добрейшая в мире мамаша? Потому ли, что Таюшка, только шагнет он на крыльцо, тоже примется нежно думать о нем и ждать? Потому ли, что утром детки из музыкальной школы приходили, салют ему отдали, на отчетный концерт позвали — на его рожках обещали экзамен играть? А может, и потому, что от пыли лохматая лампочка на крученом шнуре, и обвисшие занавески под ней (еще бабка Тайна лет сто назад чудной узор вышила — на весь уезд была первая ворожея!), и черная слива за ними, вдруг трепетнувшая от ветра или птицы, и спелая луна сквозь нее, и тонкий — поверх всего — сигнал московского точного времени, будто кто из сарая вышел и от избытка чувств на пиле заиграл, — все это вдруг насыщало мир, каждую его пору, каждую его нишу значением и тайной. Но словами объяснить это Таюшке было никак нельзя. Да и улежать с нею рядом уже не представлялось возможным. И он спускал ноги на пол, с волнением и тоскою вглядываясь в сгущающуюся за окном тьму.
— Вот голова садовая! А картошка? Я вчера гору наварила.
— Пора мне, Таюшка…
— Уехала ведь она!
— А Дусе с Кондратьевной следить велела.
— Нет. Нет! — И прыткою кошкой к печи, а от нее обратно — к лежанке, с чугунком в обнимку. — Кто тебе поднесет? Уехала ведь?
— Конечно, уехала.
— А будто дома под столом сидит.
— Почему под столом?
— Не знаю. Вижу. Находит на меня опять. И все кажется, что я виновата перед ней.
— Ты? Перед ней? Глупости какие.
— Ведьма я все же. И уж такое про нее примерещится вдруг.
— Какое? Нет, ты скажи: какое?
— Я — тебе. Ты — Коле. А он меня обратно упечет! — И чугунок — на пол, и от сажи сумрачными ладошками — его за рукав. — А они там дерутся. Знаешь, как больно?
— Шизики?
— Санитары! Шизики тихие. Коленька опять вчера приходил — сдать грозился, если пропаганду религиозную не прекращу. А я — что? Они же сами с младенчиками идут.
— А я тогда тоже какой-нибудь крендель выкину, и меня к тебе посадят.
— Ой, накличешь!
— Руки белой рубахой свяжут. И станем мы с тобой день до вечера, будто по облаку, туда-сюда похаживать — как в раю. И одна у нас будет забота — радоваться друг на друга.
— Они там дерутся.
— Да… А я и позабыл. Таюшка — ну? Отпусти руку.
— Днем еще ничего. А ночью при лампочке сплю. Видения — они ночью находят.
— Тихо, тихо, мне больно ведь. Руку-то отпусти.
— А ты с собою меня возьми!
— Заметят, Таюшка. Потерпи. Недолго, может, осталось. Может, только до зимы.
— Нет! Нет.
— Близко же до зимы.
— Я тебя еще девушкой привидела. Я тебя всю жизнь ждала.
— Я знаю. А теперь, может, чуть осталось.
— Нет, нет, нет!
Ну никакой возможности не было угомонить ее словами. Только жалейку вынуть и, будто крысу из всем известной сказки, околдовать, увести прочь — от вредоносности собственной души.
Не сразу, мотив за мотивом — главное было с умом мелодии подобрать: чтоб новая выходила еще заунывней прежней, — глаза ее делались голубиными, остекленелыми. Обычно после попурри из турецких народных песен А.И. наконец вставал, виновато подмигивая всем мясистым лицом, кланялся и на цыпочках шел к двери. Тихонько приоткрыв ее, оборачивался: Таисья оцепенело сидела на лежанке, прижав к груди высокие колени и чему-то бессмысленно кивая.
— Таюшка, я пошел?
И новый ее размеренный кивок вроде как наполнялся смыслом.
Читать дальше