А поэтому в жизни всё не так уж скверно; играючи можно справиться со всем во сне. Только всему этому не видно было конца.
Сегодня как вчера, вчера как всегда. Вот и ещё день прошёл, вот и неделя прошла, и уже наступил новый год. Что завтра на обед? Приходил почтальон? Что ты делала весь день дома?
Накрыть на стол, убрать со стола; «Ну как, все сыты?»; поднять шторы, опустить шторы; включить свет, выключить свет; «Не оставляйте же вечно свет в ванной!»; сложить, развернуть; опорожнить, наполнить; воткнуть вилку в штепсель, выдернуть. «Ну, на сегодня, кажется, все».
Первый механизм: электрический утюг; чудо, о «котором я всю жизнь, мечтала». И тут же смутилась, словно недостойна была такого прибора: «Чем я это заслужила? Вот уж теперь гладить буду каждый раз с радостью. Может, у меня теперь останется больше времени для себя?»
Миксер, электроплита, холодильник, стиральная машина: всё больше времени для себя. Но она уже не умела им воспользоваться, она словно одеревенела, и в голове у неё всё перемешалось из-за длинной-длинной прошлой жизни в качестве цепной вещи и доброго домашнего духа. И чувствами приходилось дорожить, а потому выражать их — разве что в оговорках, которые следовало поскорее исправить. Прежняя жизнерадостность, присущая всему её телу, теперь проявлялась редко — когда на спокойной тяжёлой руке вдруг стыдливо украдкой вздрагивал палец, то её тотчас прикрывала другая рука.
Однако мать не превратилась окончательно в существо запуганное и ничтожное. Она стала утверждать себя. Ей не нужно было больше разбиваться в лепёшку, и постепенно она начала приходить в себя. Бездумности как не бывало. Для всеобщего обозрения она выставляла лицо, которым была в какой-то мере довольна.
Она читала газеты, а ещё охотнее — такие книги, чтобы сравнивать прочитанные истории с собственной жизнью. Она читала то, что читал я, — сначала Фалладу, Кнута Гамсуна, Достоевского, Максима Горького, затем Томаса Вулфа и Уильяма Фолкнера. Она не высказывала о прочитанном ничего очень уж умного, просто пересказывала то, что ей особенно запомнилось. «Нет, я не такая», — говорила она иногда, как будто автор описывал именно её. Каждую книгу она читала словно описание собственной жизни и приободрялась; благодарная книгам, она начала впервые проявлять себя как личность; училась говорить о себе; — с каждой книгой вспоминала о себе всё больше и больше. Так я постепенно кое-что узнавал о ней.
До сих пор она изводила сама себя, собственное существование было ой в тягость; когда же она читала и рассказывала прочитанное, она словно погружалась и как-то глубины и, вынырнув, испытывала новое для себя чувство собственного достоинства… «Я словно молодею, когда читаю».
Правда, читая книги, она воспринимала их как рассказы о прошлом, никогда — как мечты о будущем; она находила в них всё то упущенное, что ей уже никогда не наверстать. Сама она давно уже выбросила из головы любое будущее. Так вторая весна оказалась лишь преображением того, что она некогда пережила.
Литература не научила её впредь думать о себе, но показала ей, что время для этого уже упущено. Она МОГЛА БЫ играть какую-то роль. Теперь она самое большее ИНОЙ РАЗ вспоминала о себе и позволяла себе, делая покупки, выпить в кафе чашечку кофе и НЕ ОЧЕНЬ заботилась о том, что скажут люди.
Она стала снисходительнее к мужу, давала ему выговориться, не обрывала его на первой фразе слишком резким кивком, отчего у него тотчас отнимался язык. Ей было его жаль, вообще зачастую от захлёстывавшей её жалости она делалась беззащитной — даже если другой человек вовсе не страдал, а она лишь представляла его себе в соседстве с предметом, который особенно подчёркивал преодолённое им отчаяние: тазом с отбитой эмалью, крошечной электроплиткой, чёрной от много раз убегавшего молока.
Если кого-нибудь из родных не было дома, она представляла его себе в полном одиночестве; раз этот человек не у неё дома, значит, он один-одинёшенек. Холод, голод, вражда окружающих; а за всё в ответе она. Даже на своего презираемого мужа распространяла она чувство своей ответственности, беспокоилась о нём, когда ему случалось обходиться без неё; даже в больнице, где ей приходилось нередко лежать, однажды с подозрением на рак, её мучила совесть, потому что муж в эти дни, наверное, ел всё в холодном виде.
Благодаря сочувствию к тому, кого с ней не было, она никогда не ощущала одиночества; лишь короткое, преходящее чувство заброшенности, когда он снова навязывался ей; непреодолимое отвращение к отвисшим на заду брюкам и согнутым коленям. «Мне хотелось бы смотреть на человека снизу вверх»; да, мало радости всё время только презирать кого-то.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
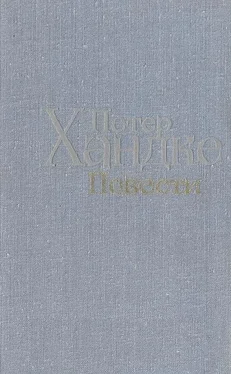



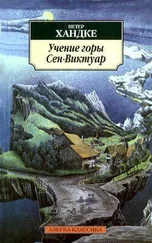
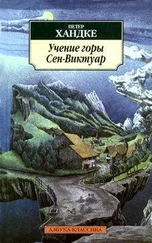
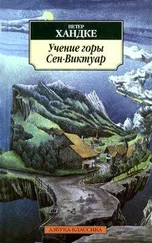
![Петер Хандке - Женщина-левша [litres]](/books/397994/peter-handke-zhenchina-levsha-litres-thumb.webp)




