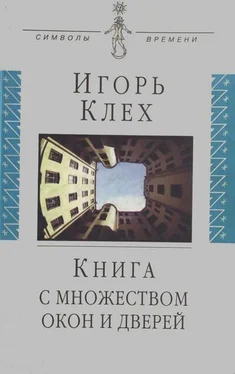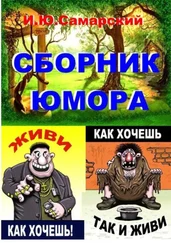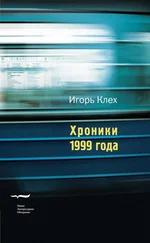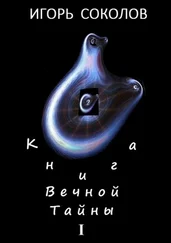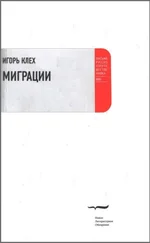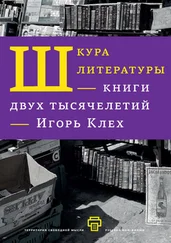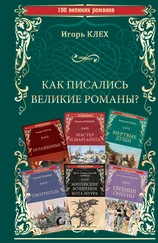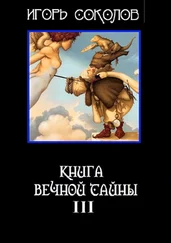Именно на таком фоне — в безнадежный и тупой полдень «развитого социализма» (названного позднее «застоем») встречены были и восприняты первые книжки В. Похлебкина. В них он пренебрег суеверием «пользы» — его кредо стала вкуснаякухня, возвращение радости жизни и поэзии еды. Читатель, сохранивший в себе зерно здравого смысла, не замороченный окончательно завиральными «плановыми» теориями, радостно откликнулся на приглашение «поесть», — почитать, узнать, подумать, приготовить самому. С тех пор, как человек изобрел экспериментальную науку, способность его воспринимать и понимать распространяется почти исключительно на собственные продукты, изделия, на то, что он сделал сам или сумел повторить. Возможно, это имел в виду философ Иммануил Кант, называя все остальное «вещами в себе».
Вторая не менее важная заслуга Похлебкина — это внятное изложение общих принципов кухни, смысла операций, которым подвергается провизия в ходе кулинарных процессов. Что происходит под крышкой? О, это огромное освобождающее знание, дающее повару власть над еще не готовым материалом обеда, предоставляющее ему необходимую свободу для маневра, для импровизации, развивающее в кухмистре интуицию, сродни композиторской. Не зря в одной из книг Похлебкин уподобил бридость, неразвитость вкусовых рецепторов (угнетаемых, по его мнению, табаком и алкоголем), отсутствию музыкального слуха. В другой его книге поражает описание гастролей поваров в знаменитых ресторанах, обставленных зачастую не менее торжественно, чем приглашение дирижеров.
Любые знания однако — лишь условие, необходимое, но недостаточное. Так в мировой практике существует 150 типов супов, или тысяча их видов, скажем (по Похлебкину): 24 варианта щей, 22 борща, 18 — ухи и т. д. Но все это лишь классификация, сродни Линнеевой, групп продуктов и блюд. Чистых вкусовых ощущений, таких как «соленость», «горькость», «кислота» и т. д., едва ли больше чистых цветов спектра, — но как каждый живописец из 7 цветов (плюс черный и белый) создает свою неповторимую цветовую гамму, соблюдая и одновременно нарушая правила их сочетаемости (чему учит наполовину лженаука «цветоведение»), так и повар своим талантом перекрывает и перекраивает по-своему любое наше знание о вкусе. И в этом третий урок Похлебкина: знание правил нужно еще и затем, чтобы смочь пренебречь ими при необходимости. Потому что и самые великие и основополагающие кухонные принципы без маленьких хитростей, — а точнее, тонкостей, — это грубый муляж, чучело Общепита, вселенский «Макдональдс», и дальше: харч для космонавтов в запаянных тубах.
Книги Похлебкина известны и переиздаются: это «Чай…», «Все о пряностях», «История водки», «Тайны хорошей кухни», «Занимательная кулинария», «Национальные кухни наших народов» (где, кстати, была предпринята едва ли не первая в отечественной кулинарии робкая попытка выхода на некие ментальные основания национальных кухонь — попытка описания их как органического и сложно устроенного целого, неразрывно связанного со способом выживания данного народа, в конкретике историко-географических реалий и не всегда ясных предпочтений). Незабываемо описание трех волн влияния французской кухни на русскую, окончательно прояснивших ее для себя самой ко времени, описанному Гиляровским. Увы, ненадолго, как выяснилось. Начало положено было хитрой лисой Талейраном, уступившим Александру I на три года лучшего повара Франции, который обслуживал по его распоряжению европейских монархов, собравшихся на Венский конгресс, чтобы решить участь Франции после Ватерлоо. Искусство великого кулинара Мари-Антуана Карема в немалой степени повлияло на мягкость принятого ими решения. Несколько лет спустя в Петербурге и Москве открылись первые французские ресторации. И Пушкин принадлежал к первому поколению русских гурманов — уже не гастрономов — ценителей, а не любителей. Из взятого Парижа русским войском оказались прихвачены с собой не только некоторые любовные штучки, но и вывезены новые гастрономические представления. А вот Гоголь (может, потому что малоросс) отдавал предпочтение не французской, а более южной и простонародной итальянской кухне — ее макаронам с подливой и сыром, равиоли, фруктам, овощам и, возможно, салу. Книги Похлебкина еще и потому «литература», что провоцируют читательскую мысль и инициативу. Обрисованная им историческая драма «выжирания» мороженной морской рыбой в России, особенно за последние полвека, ее великой пресноводной кулинарной традиции, способна взолновать не меньше, чем драма из жизни дворянских гнезд. Картины повального русского пьянства накануне изобретения водки вносят неожиданные коррективы в наше понимание истории. Стиль Похлебкина, когда его «зашкаливает», способен достигать иногда подлинной энергичности выражения. Квалификация им кашевара как кулинарного «фельдшера», или блестки вроде «этот салат — пищевая молния» (и далее следует рецепт).
Читать дальше