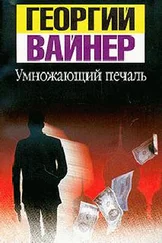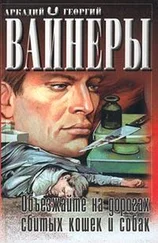Что ты привязался ко мне, дурацкий Истопник? Чего ты хочешь? Если у тебя есть воля и цель, ты должен понять, что мы-то ни в чем не были вольны. Даже в выборе роли. И я сам был лишь одной из бесчисленных шестеренок, которые, не зная направления и задачи своего вращения, должны были раскрутить ось истории в обратную сторону. Все вместе… Тогда я еще не вычитывал из словаря иностранных слов мудреные латинские изречения. А то бы вычитал:
АУДИ, ВИДЕ, СИЛЕ – СЛУШАЙ, СМОТРИ, МОЛЧИ. Замечательно! Это программа. Я уже тогда ее понял, без всяких словарей и дохлых римлян. По советски. Слушай. Смотри. Молчи.
Минька шел из буфета, довольный жизнью, вполне сытый и чуть под мухарем, значительно хмурил белесые брови на своем умном лице. У глупых людей нередко бывают умные лица. Наверное, оттого, что им думать легко. Увидел меня, улыбнулся и крикнул приветственно:
– Трешь-мнешь – как живешь? Яйца катаешь – как поживаешь?
В голове у него мрак. Слабо разбавленный какой-то скабрезнои чепухой.
– Где ты шатаешься? – спросил я сердито. Хотя и так было ясно. Искренне Минька любил только две вещи: жратву и начальство, и коли не было его на месте – значит, он либо отирался где-то поближе к кабинетам командиров, либо жрал в буфете.
– Да я не думал, что ты быстро обернешься: тебе ведь евреечка та приглянулась, а? Видел, видел…
Со смаком захохотал и помахал перед моим носом своим известным брелоком. Брелок был славный: бронзовый человечек с огромным торчащим членом. Входя на допросе в раж, Минька зажимал человечка в кулаке так, чтобы член высовывался на сантиметр между пальцами, и бил им, как кастетом. Если по лицу – не убьешь, а дырки в щеках, в губах получатся очень больные и надолго. А не на допросах – просто веселил нас Минька своим смешным брелоком. Бабам – оперативницам и машинисткам он щекотал ладони теплым членом бронзового человечка, с интересом спрашивал: «Возбуждает?» Хохотали наши девушки, ласково отпихивали его, а он мне подмигивал: «Тебя бабы любят за красоту и хитрость, а меня – за простоту и веселость!» В общем-то он правильно говорил. Минька был человек без фокусов. На его простом, чуть жирноватом лице была написана готовносгь совершить любую мерзость за самое скромное вознаграждение. Он и со шлюхами путался как-то лениво, без интереса, удовольствие от них не вписывалось в две его главные жизненные любови: шлюха не могла быть начальством, и слопать ее тоже не представлялось возможным. Минька отпер кабинет, зажег свет, чинно уселся за свой ореховый двухтумбовый стол, не спеша набрал номер телефона караулки и велел доставить арестованного. И последние приметы человеческого в нем незримо истекли: с одной стороны, был сыт, с другой – для доставляемого из бокса бывшего профессора Лурье он сам и являлся наибольшим на свете начальником. – Начнешь допрос ты? – спросил он из вежливости. Нет, ничего он не понял, не пригляделся к тому, что я не сел, как всегда, за стол сбоку и не устроился рядом с ним или перед ним, а отошел в сторонку, примостился на краю подоконника. Я только помотал отрицательно головой, и он полностью этим удовлетворился, ибо вступал в звездные часы своей жизни. Как плохой актер, искренне преданный сцене, он усматривал в своей ничтожной роли несуществующий смысл, он выдавливал подтекст в еще не написанной пьесе о нем самом – о Миньке-Начальнике. Он ни на миг не задумывался и над тем, что если рабочий день становится рабочей ночью, что если время движется вспять, что если самой малой ценностью на земле становится человеческая жизнь, то и пьеса о Начальнике – лишь инструкция по использованию крохотной шестеренки, откручивающей вместе с другими ось бытия назад. Я смотрел в окно, на пустоватую площадь Дзержинского. Как рыбы, в глубине сновали машины, тускло помаргивая фонариками. Пригасили уличное освещение. Из арочного свода метро выплескивались последние вялые струйки пассажиров, над которыми зловеще мерцала, как свеженарубленное мясо, буква "М". На Спасской башне куранты оттелебенькали четверть. Четверть двенадцатого. Для Лурье истекает последний день свободной жизни. Первый день долгой, наверное, окончательной неволи. Чтобы стать свободным, ему надо родиться снова. Перевоплотиться. В птицу, дерево, камень. Может быть, в Миньку Рюмина. Интересно, хотел бы старик Лурье стать Минькой Рюминым? Со своего подоконника я дотянулся до репродуктора, включил, и кабинет затопили рыдающие голоса сестер Ишхнели. «Чэмо цици натэла…» – выводили они плавно, густо, низко. Минька нетерпеливо-задумчиво выстукивал пальцами по столешнице. Короткие ребристые ногти неприятно шоркали по бумажкам.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу