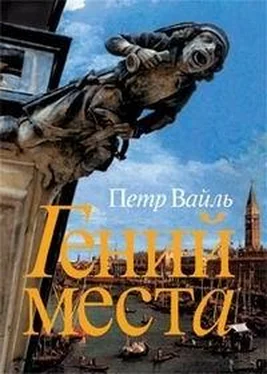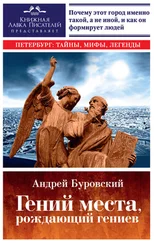Крещение было необходимым условием, и его следовало выполнить. Совсем безболезненно это не прошло: Малер знал, что многие — не только евреи — его осуждают, как осуждаются любые вероотступники. Комплекс принесенной жертвы — в том, что он терпеть не мог еврейских анекдотов и шуток, любимых венским еврейством, что попросил жену Альму не носить высокую прическу, делавшую ее похожей на еврейку. Но главное было достигнуто — он завоевал Вену.
Семнадцать лет он кружил по империи, работая в Словении (Лайбах-Любляна), в Моравии (Ольмюц-Оломоуц), в Богемии (Прага), в Венгрии (Будапешт), отходя для разбега в Германию (Лейпциг, Кассель, Гамбург), сужая круги, подбираясь к центру. Осада завершилась триумфом.
Победа была тем более полной, что маленький (163 см) провинциал взял и одну из первых столичных красавиц. Венчались в самой большой церкви Вены — Карлскирхе, диковатой для стильного города: помесь барокко, римских аллюзий, мавританства. Альму Шиндлер, приемную дочь художника Карла Молля, одного из лидеров венского Сецессиона, с юности окружало обожание не просто мужчин, но мужчин выдающихся. Так шло всю жизнь: к ней сватался Климт, у нее был роман с композитором Цемлинским, трехлетняя неистовая связь с живописцем Кокошкой, после смерти Малера она вышла за архитектора Гропиуса, а уже 50-летней, словно завершая охват всех искусств, за писателя Верфеля. Альма сочиняла хорошую музыку, но Малер условием брака поставил ее отказ от творчества: в семье хватит одного композитора. Вену он не просто побеждал, но и растаптывал. Похоже, он и любил ее — побежденной.
Малер покинул Вену, когда перестал ощущать себя триумфатором. Венцы слишком поклонялись музыке, чтобы десять лет терпеть деспотического законодателя, пусть и гениального.
Можно предположить, что иной Веной для него могла бы стать Америка, где он оказался первым иностранным композитором, который реально влиял на повседневную музыкальную жизнь, хотя тут уже с успехом работали Чайковский, Дворжак, Рихард Штраус. По письмам из Нью-Йорка разбросаны признания: «Здесь вовсе не царствует доллар, его только легко заработать. В почете здесь только одно: воля и умение… Здесь все полно широты, здоровья»; «Так как люди здесь непредубежденные, то я надеюсь найти благодатную почву для моих произведений, а для себя — духовную родину»; «Я, конечно, проведу ближайшие годы здесь, в Америке. Я в полном восторге от страны…»
Помешала болезнь — иначе у Америки были бы не только Рахманинов и Стравинский, но и Малер.
Выбирая место для поселения на покое, уже зная о больном сердце, но не зная, что умрет от этого пятидесятилетним через год с небольшим, он прикидывал: «Мы с Альмой теперь увлекаемся тем, что каждую неделю меняем планы насчет нашего будущего: Париж, Флоренция, Капри, Швейцария, Шварцвальд… И все же я думаю, что в ближайшее время мы обоснуемся где-нибудь близ Вены, где светит солнце и растут красивые виноградные лозы, и больше не будем трогаться с места».
Легко сообразить, где такое место, — это Гринцинг, северная окраина Вены, с ее чисто австрийской институцией, именуемой «хойриге». Дословно — «нынешнего года»: это и молодое вино, которое считается молодым до дня Св. Мартина, 11 ноября, и заведения, где такое вино продается. Там, по обе стороны от главной улицы Кобенцльгассе, разбросаны ресторанчики-хойриге под «красивыми виноградными лозами», где за столиками в садах наливаешься рислингом, пино или простым зеленым вельтлинером, — эффект известен любому, кто пробовал в Грузии маджари: пьется, как сок, голова ясная, встать невозможно.
В хойриге «Шутцэнгель» друзья устроили прощальный обед Малеру, покидающему Вену ради Америки. 5 декабря 1907 года он отбыл с Западного вокзала. Пришло человек двести — цвет Вены. Когда поезд двинулся, художник Климт сказал: «Кончилось».
Возвратившись в Вену умирать, Малер окончательно вернулся именно в Гринцинг в мае 1911 года — на местное кладбище. Здесь, а не на Центральном, рядом с Бетховеном, Шубертом, Брамсом, Штраусами, он завещал себя похоронить — без речей и музыки. На невысоком надгробье в стиле арт-деко — только имя и фамилия. Малер сказал: «Те, кто придут ко мне, знают, кем я был, а другим знать не надо».
Теперь уже знают все. С 70-х годов критики заговорили о малеромании. Часто цитируют его слова: «Мое время еще придет». Оно и пришло — когда разорванное сознание века ощутило потребность в синтезе. Не только в светлой гармонии классики, но и в преодолевающих эклектику и разнобой малеровских гигантах («переогромленность» — подходящее слово Мандельштама). Его симфонии в среднем звучат вдвое дольше бетховенских, целиком заполняя собой концерты. «Я хотел написать только симфоническую юмореску, а у меня вышла симфония нормальных размеров. А раньше, всякий раз, когда я думал, что получится симфония, она становилась втрое длиннее обычной». Имперская экспансия!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу