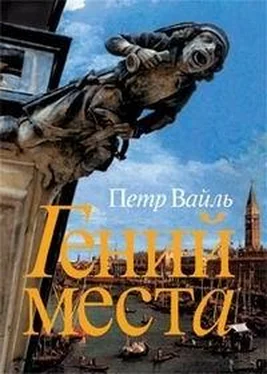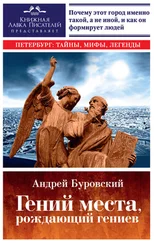У нас не писали и так: «Коммунист — живой человек, как и все люди». На первом советском издании «Повести о бедных влюбленных» стоит дата: 1956 год. XX съезд партии, Хрущев разоблачил Сталина, начиналась свобода — всякая, как только и случается со свободой. «Свобода приходит нагая», — справедливо написал Хлебников, кажется, совсем не имея в виду сексуальный аспект темы.
Свобода под вывеской братского коммунизма наиболее успешно доходила в итальянской упаковке. Священный для Кремля набор — Грамши, «Бандьера росса», Тольятти — открывал пути. Тысячи советских интеллигентов, вырезая из журнала «Огонек» репродукции с картин Ренато Гуттузо, не подозревали, что разлагают себя чуждым экспрессионизмом: им просто нравились броские краски и изломанные линии в эпоху румяного и закругленного. Умные редакторы писали умные предисловия об идейной правильности Альберто Моравиа, Леонардо Шаша, Итало Кальвино. Во времена запрета на Шенберга и Веберна московские и ленинградские эстеты получали додекафонию из рук члена КПИ Луиджи Ноно. Для менее прогрессивных всегда была наготове традиционная музыка — итальянская опера.
Первая песня, которую я выучил наизусть, была не «Марш энтузиастов» и даже не «В лесу родилась елочка», а ария Жоржа Жермона из «Травиаты»: «Di Provenza il mar, il suol…» To есть по-русски, разумеется, — у нас все оперы пелись в переводе: «Ты забыл край милый свой, бросил ты Прованс родной…» С тех пор не могу слышать эту мелодию без волнения, перебирая любимые записи: Гобби, Тальябуэ, Бастианини, Дзанасси, Капучилли. Кажется, в пять лет я произносил «про вас»: соотнести «Прованс» было не с чем, даже с соусом — соус идея не русская.
Италия всегда была для России тем, что волнует непосредственно — голосом. Мальчик Робертино; вожделенные гастроли «Ла Скала» с Ренатой Скотто и Миреллой Френи; песни Доменико Мадуньо, Риты Павоне, Марино Марини, на чьем концерте в Риге сломали все стулья; Карузо, вошедший в обиходный язык не хуже Шаляпина («Ишь, распелся, Карузо»); легенда XIX века об Аделине Патти; ненависть славянофилов к засилью «Троваторов»; любимая опера Николая I — «Лючия ди Ламермур» (любимая опера Николая II — «Тристан и Изольда», и чем это кончилось?).
Итальянцы пели лучше всех, но еще важнее то, что они — пели. В том смысле, что не работали. Мы с легкостью забыли, что именно они построили нам Кремль, пышнее и обширнее, чем образцы в Вероне и Милане. Правда, все эти строители возводили не многоквартирные дома и не макаронные фабрики, а нечто необязательное, по разделу роскоши.
Итальянцы не комплексовали нас английской разумностью, немецким трудолюбием, французской расчетливостью. Из всех иностранцев только они были лентяи. Конечно, не больше, чем мы, и они это знали уже полтысячи лет, сообщая о русских: «Их жизнь протекает следующим образом: утром они стоят на базарах примерно до полудня, потом отправляются в таверны есть и пить; после этого времени уже невозможно привлечь их к какому-либо делу» (Контарини). Примерно так побывавшие к югу от Альп русские описывали сиесту.
В Америку эмигрантский путь лежал через Австрию и Италию. Осенью 77-го все говорили об арабских террористах, и в каждом тамбуре поезда Вена-Рим стояли австрийские солдаты с короткими автоматами, вроде немецких «шмайсеров», — блондинистые, строгие, надежные. Утром я проснулся от ощущения невиданной красоты за окном: Доломитовые Альпы. Вышел в тамбур покурить от волнения и оцепенел: на железном полу в расхристанной форме, отдаленно напоминавшей военную, сидели черноволосые люди, дымя в три сигареты, шлепая картами об пол и прихлебывая из большой оплетенной бутыли. Карабины лежали в углу, от всей картины веяло безмятежным покоем.
Мы, кажется, похожи — в частности, тем, что обменялись вещами почти нематериальными. Итальянцы получили от нас мифологию зимы и полюбили в своей моде меха и высокие сапоги, а собираясь к нам, с удовольствием напяливают лохматые шапки уже в аэропорту Фьюмичино. Но не от дантовского ли ада идет представление о страшном русском холоде, какого в России, пожалуй, и не бывает? В летописи чудом сохранилась запись о погоде в Москве как раз тогда, когда там гостил Контарини. Зима выдалась на редкость мягкой, что никак не отразилось на запечатленных им по-феллиниевски красочных картинах московских морозов.
Мы отвечали своим представлением о незаходящем неаполитанском солнце, под которым только и можно петь и забивать голы. Певцы до нас добирались редко: но уж добравшись, влюбляли в себя, как Адриано Челентано, латинский любовник — веселый и неутомимый. Таков был и Мастроянни, и вся страна знала рефрен его слабеющего героя из фильма «Вчера, сегодня, завтра»: «Желание-то у меня есть…» — последняя доблесть мужчины.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу