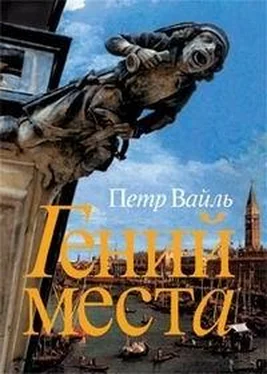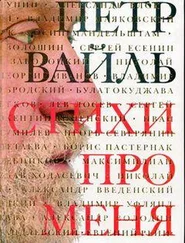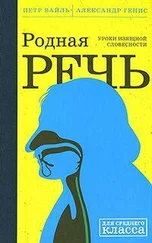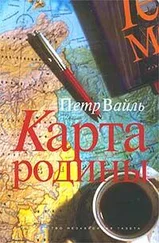Мисима поклонялся силе, но он писатель — писатель большого, выдающегося таланта, а таланту всегда интереснее слабость. И в манифесте силы «Солнце и сталь» ярче всего написано о слабости: «Детство я провел у окна, жадно вглядываясь вдаль и надеясь, что ветер принесет оттуда тучи События». Какой точный образ человечества, проводящего у окна не только детство, но и всю жизнь.
Мачо Мисима заявляет: «Слова „совесть интеллигента“, „интеллектуальное мужество“ для меня — пустой звук». И тут же, пышно пиша о своем стиле, о его благородстве и суровости, вдруг по-интеллигентски признается, резко идя на попятную: «Впрочем, я не хочу сказать, что моя проза обладает подобным качеством…» Вот это — именно «интеллектуальное мужество» художника, который, как все — как любой, когда-либо бравшийся за перо, — не контролирует слово.
Телу приказать можно, слову — не удается.
Уже на третьей странице «Солнца и стали» Мисима прокламирует свое «нынешнее предубеждение против всех и всяческих слов». И далее — семьдесят пять страниц: многословных, занудных, с длиннотами, перепевами, повторами.
Мисима загнал себя в узкую щель между двумя невозможностями. Одна — общественная жизнь: «Есть ли более страстная ипостась бытия, чем чувство принадлежности кому-то или чему-то?» Назначив себя в лидеры национального возрождения, он поневоле должен был прибегать к доступным массе плакатным словам: «Рожденные усилием воли, эти слова требовали отказа от своего „я“; они с самого начала не имели ни малейшей связи с обыденной психологией. Несмотря на расплывчатость заключенного в них смысла, слова-лозунги источали поистине неземное сияние».
Нам ли не знать этой коллизии: все хорошие слова и красивые фразы заняты лозунгами. «Ум», «честь», «совесть», «наша эпоха», «слава», «народ», «мир», «труд», «май»… Для частной жизни остается мычание и молчание.
Обратим внимание на оговорку: «Несмотря на расплывчатость заключенного в них смысла…» Для японца — конкретного, точного, вещественного — это приговор.
Другая невозможность, перед которой оказался Мисима, — совершенно противоположная, антиконформистская, романтическая. Огромная амбиция, писательская гордыня побуждала к личному творческому подвигу: «Я должен был изобрести хитроумную процедуру, которая позволила бы фиксировать тень каждого мига жизни». Это уж сверхъяпонскость — запечатлеть даже не миг, но тень его! Мисима в своих художественных намерениях нацелился забраться дальше всех, дальше Басе. Неудивительно, что ему это не удалось.
Итог: попытка замены «языка слов» — «языком тела». Попытка жалкая, заведомо обреченная на провал — и семидесяти пяти страниц не надо.
Слова доказываются либо словами, либо молчанием. Но молчание — только молчанием. Оттого «Солнце и сталь» — тускло и слабо.
Апология молчания. Японская живопись эту проблему решила. Литература — по определению — нет. В словесности не найти аналога пустотам на холсте. Не белые же страницы… В обыденной жизни молчание — тоже высказывание. На письме паузу не выдержишь, к стене не отвернешься, обета не дашь.
Подтекст, недоговоренность, умолчание — испытанные приемы, призванные напомнить о том, что молчание — золото. Вид на Золотой Храм с холма у малого пруда, когда на фоне красных кленов и зеленых сосен виден лишь верх крыши с золотым фениксом на коньке, — так же прекрасен, как каноническая фронтальная панорама. «Стоило мне вспомнить один штрих, как весь облик Кинкакудзи вставал перед моим взором». В словах послушника Мидзогути — важный принцип японской эстетики: репрезентативность фрагмента, «один во всем, и все в одном».
Если быть последовательным, фрагмент следует уменьшать — до самой малости, до нуля, до пепла. «Возможно, Прекрасное, дабы защитить себя, должно прятаться?..» Они и спрятали — сжегший храм маньяк Мидзогути и убивший себя нарцисс Мисима. Сохранение красоты любой ценой — вплоть до уничтожения.
ПОПЫТКА ИКЕБАНЫ (окончание)
· Гомогенность страны, на 99,5 процента состоящей из японцев. Все меж собой родственники. Кавабата родился в районе Акутагава. Два главных города, совершенно разных — флагман западничества и оплот традиций — друг в друга перетекают: ТОКИОТОТОКИОТОТОКИОТОТОКИОТО…
· В центре Киото традиционная гостиница — рекан . Вся мебель в комнате — столик высотой в ладонь и две подушки. Постели перед сном вынимают из шкафа и стелят на пол. Вечером наливаешься зеленым чаем в ожидании сатори — просветления. Читать на полу как-то глупо. Писать открытки лежа трудно. Телевизора нет — рекан. И мечтаешь бездельно о реканах будущей России — для интуристов: с тюфяком на печи, с кадкой квашеной капусты в сенях, на ужин водка, на завтрак тоже. Все веселее. А тут самоусовершенствуешься, рассматривая рисунок потолочных досок — витиеватый узор вроде иероглифов. Все, естественно, некрашеное — принцип саби : простота. Проще некуда.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу