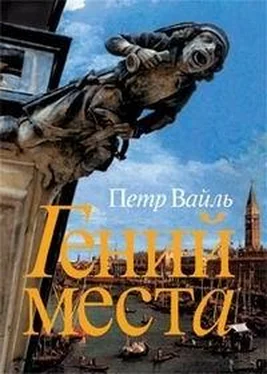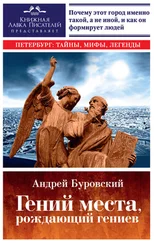Настоящие народные сказки, как всякий фольклор, — в легких отношениях со смертью. Мифологическая простота достигается тут за счет представления о непрерывности процесса бытия: сегодня живой, завтра мертвый — какая разница. Скандинавский фольклор — рекордный по свирепой обыденности смерти: «Они теперь в моде, эти широкие наконечники копий, — сказал Атли и упал ничком». Впрочем, страшной жестокостью полны и русские сказки — особенно «заветные», собранные Афанасьевым или Ончуковым. Там разгул цинизма (прохожий солдатик, хотя у него даже не спрашивают паспорта, насилует поочередно поповну, попадью и попа), там запросто валятся трупы: и за дело, и чаще за так. Живые и мертвые сосуществуют на равных, и потому фольклорный герой убивает не задумываясь, как прошедший Чечню омоновец: он привык к пограничному состоянию.
Отзвуки такой жуткой легкости есть и у Андерсена — там, где он старательно стилизует фольклор: «Большой Клаус побежал домой, взял топор и убил свою старую бабушку, потом положил ее в тележку, приехал с ней в город к аптекарю и предложил ему купить мертвого человека» («Маленький Клаус и Большой Клаус»). Однако с годами Андерсен словно перестал стесняться того, что было ясно с самого начала, но что он считал нужным не выставлять: его сказки — чистая, рафинированная литература. Смерть у него отягощена христианскими аллюзиями, отрефлектирована, над ней пролиты обильные слезы, автор и читатель преисполнены печали. При всем этом частота кончин в сказках и историях — угрожающая. Сколько точно — не подсчитывал и не стану: само это занятие было бы пугающей игрой со смертью, пусть даже чужой и бумажной.
Важна суть: Андерсен плачет, но убивает. Еще важнее — кого: в андерсеновских сказках и историях умирает самое лучшее, красивое и здоровое — просто потому, что самое живое.
Зато — неживое оживает. Непревзойденное мастерство Андерсена — в сказках о вещах. Предвестник Дюшана, он создал огромную галерею ready-made объектов: Воротничок, Мяч, Ножницы, Утюг, Подвязка, Штопальная игла… Его следовало бы числить среди своих прямых предков сюрреалистам, это у него происходит прокламированная ими захватывающая «встреча зонтика со швейной машиной на операционном столе». Едва ли не лучшие во всем андерсеновском наследии две страницы — перебранка кухонной утвари в «Сундуке-самолете».
Неодушевленный предмет долговечнее, надежнее и — главное — управляемее прихотливого одушевленного человека. Как блистательно расквитался Андерсен с отвергнувшей его Риборг Фойгт, встретив ее через пять лет после неудачного сватовства и превратив в мячик из сказки «Парочка (Жених и невеста)»: «Любовь пройдет, если твоя возлюбленная пролежит пять лет в водосточном желобе; и ее ни за что не узнаешь, если встретишься с ней в помойном ведре».
Страсть к антропоморфизму сделала его предтечей современного научпопа, чего-то из некогда любимой народом серии «Эврика». Такова, например, сказка «Лен» — о производственном процессе и ресайклинге: экологическое мышление на полтора века раньше положенного. И разумеется, он обожал науку и технику, видя в этом новый богатейший источник художественного вдохновения, «Калифорнию поэзии», как он выспренно выражался.
Сам он написал сказку о трансатлантическом кабеле «Большой морской змей»; мечтал о самолетах, сильно ошибаясь в сроках: «…Через тысячи лет обитатели Нового Света прилетят в нашу старую Европу на крыльях пара, по воздуху!»; странствовавший больше, чем любой другой писатель, любил путешествия не вообще, а именно железнодорожные, пророчествуя: «Скоро рухнет Китайская стена; железные дороги Европы достигнут недоступных культурных архивов Азии, и два потока культуры сольются!» — это из истории с примечательным названием «Муза нового века».
Андерсен воспринимал достижения науки как попытку адаптировать волшебный вымысел к жизни. Буквально: мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Сам обделенный витальной силой воспроизводства, он тянулся к технике как к наглядно существующей неживой, но одушевленной материи. Его сказочный антропоморфизм находил реальное воплощение в поездах настоящего и воздушных кораблях будущего.
Удивительным образом Андерсен попадал в темп и в рост стремительно меняющемуся миру и в то же время был наивно нелеп на его взрослом фоне. Он будто проговорился о таком основополагающем несоответствии в «Гадком утенке», дав изумительную по точности и силе формулу, пригодную, впрочем, для кого угодно: «Как мир велик! — сказали утята».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу