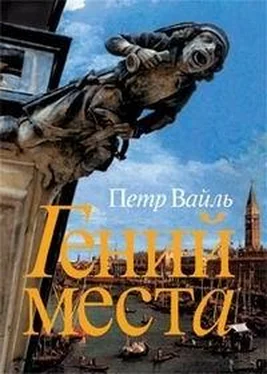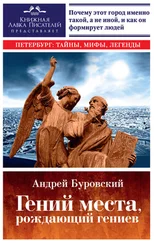В знаменитом стихотворении Бродского есть строка: «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной». В этих словах — и ужас, и восторг, и гордость, и смирение. Мы, оглядываясь назад или вглядываясь вперед, видим вершины. Взгляд поэта проходит по всему рельефу бытия, охватывая прошлые, настоящие, будущие равнины и низменности — идти по которым трудно и скучно, но надо.
Учитывая место, о котором идет речь, можно назвать такой пафос — антилеонтьевским. Антибайроновским, в конечном счете.
От этого отношения и пострадал Стамбул. Бродский, обыгравший в английской версии своего эссе стихотворение Йейтса, по-иному истолковал дух времени, о котором в йейтсовском «Плавании в Византию» сказано — «рукотворная вечность». Город, так напоминающий об империи к северу — империи, по всем тогдашним признакам вечной, — размещен на пространстве, которое вызывает физическое отвращение автора, он не жалеет эпитетов и деталей, описывая шум, грязь и особенно пыль.
Пространство, по Бродскому, вообще иерархически ниже времени, подчиненнее, несущественней: ставка на пространство — характеристика кочевника, завоевателя, разрушителя; на время — цивилизатора, философа, поэта. К тому же стамбульское пространство присыпано пылью. В «Путешествии» навязчива тема пыли — вещи, безусловно, негативной, противной. Однако вспомним, что в стихах Бродского пыль именуется «загар эпох». Время у него отождествляется чаще всего с тремя материальными субстанциями, способными покрывать пространство: это пыль, снег и вода. Снег в Стамбуле редкость, но воды и пыли — сколько угодно. Времени на Босфоре-в избытке. То есть — истории.
КАППАДОКИЯ. НИГДЕ
Из Стамбула летишь в Анкару, где половину времени убиваешь на мавзолей Ататюрка, но не жалко, потому что после вспоминаешь. Помимо родных ощущений, поучительно и смешно: следуя заветам Ататюрковых секулярных преобразований, преемники так увлеклись истреблением исламских аллюзий, что мемориал получился фантазией на тему греческого храма.
Дальше путь лежит в глубь Анатолии, которая всего лишь — азиатская Турция. Но привыкнуть к этой книжной античности непросто. Звонишь в справочную, чтоб уточнить номер, барышня спрашивает: «Стамбул-Анатолия или Стамбул-Фракия?»
Долго едешь на юго-восток по Галатии и Каппадокии, по непроглядным степям, где монотонность ландшафта каждые тридцать километров прерывается руинами караван-сараев, мимо огромного соляного озера, на берегу которого стоит сувенирный сарай, торгующий комками соли на память, — к плато Юргуп, к долине Гереме.
Здесь, в Каппадокии — одно из диковиннейших мест на свете. Горы из мягкого вулканического туфа обдувались ветрами и веками, превращаясь в то, что кажется фокусами Антонио Гауди, — в фигуры причудливых плавных очертаний, которые, за неимением леса, служили укрытием и жильем. Дерево шло только на двери. В этих скалах вырубали квартиры и целые многоквартирные дома со времен хеттов. Но особенно здешнее жилищное строительство процвело с приходом ранних христиан, и Каппадокия связана с именами отцов церкви — Василия Великого, Григория Нисского, Григория Назианзина. Камень, как бы мягок он ни был, долговечнее других строительных материалов: скальные и подземные дома, склады, церкви, города на тысячи обитателей — уцелели.
Надивившись, пускаешься в обратный путь по Анатолии — через Киликию, Ликаонию, Фригию, Лидию — к морю. Фантастический пятачок жилых скал остается позади, слева отдаленным фоном — высокий Таврийский хребет, впереди и вокруг — ровно. Только уж совсем на западе, в близости моря, где среди хлопковых полей вьется чуждым здесь греческим орнаментом полувысохший Меандр, появляются оливы, дубы, жидковатые сосны, персиковые сады, холмы.
В каппадокийских степях вертикалей нет, но внезапно из ниоткуда возникают двухсот-, трехсоттысячные города — и уходят назад, как марево. Вдруг понимаешь, что страна сопоставима с гигантским соседом к северу, который теперь не такой уж гигант, а турецких 65 миллионов — это больше Британии, Италии, Франции. Некстати вспомнил, как в армии, в отдельном полку радиоразведки, подслушивал переговоры натовских баз, в том числе здесь, в Турции: в Измире, в Инджирлыке. Майор Кусков тычет в карту: «Гнезда, понимаете, свили под самым носом, названия, понимаете, даже противные — Инжырлик!»
Названия — небывалые. Оторопев, въезжаешь в город Нигде. Надо запомнить: когда пошлют туда, не знаю куда, принести то, не знаю что, — это здесь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу