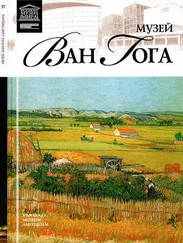Ей хотелось просто видеть и слышать его. Участвовать в его жизни было ей не по силам, она боялась не справиться, злилась на себя за это и на него тоже злилась… И сейчас, пока шла мимо канавы, куда в двенадцать лет удачно завернула на велосипеде, и тот же теперешний кооператор Пашка ее оттуда вытаскивал, продолжала обижаться. Но надо было звонить, необходимо было сказать в трубку хоть что-нибудь, например:
— Мы с вами — малознакомые люди!
Эта фраза просто рвалась из нее, радостно и бодро пульсировала, выговаривалась легко и сильно. Она сейчас казалась необыкновенно удачной. Такой случился невозможный подъем, так сказать, упоение решимостью. Надо только набрать побольше воздуха… Ничто, ничто не остановит человека в таком состоянии. Одна беда: минут через десять оно обычно проходит само. А так, ничто и никто!
Кот сидел на куче песка, высыпанной вчера около Пашкиного дома. Она узнала его, разглядела в темноте все нехитрые детали его помойного окраса. Это был, безусловно, их кот. У нее как-то сразу расслабились мышцы лица. Все всплыло: и больная жена Паши Шубина, и ночь, и девочки одни, и спящая семья того, кому она собиралась, дура, звонить. И его недовольное лицо она себе представила. Первые несколько секунд он, возможно, разговаривал бы с закрытыми глазами. Скорее всего, до заготовленной дурацкой фразы (это же ясно теперь, что дурацкой!) дело бы просто не дошло.
Она как-то механически, чувствуя, как сгибаются ноги в коленях, присела и взяла кота. По пути домой рассмотрела каждый камешек на дороге, потому что больше ей как-то некуда было смотреть и не о чем думать. Оказалось, что уже давно идет дождь, потому что и камни, и ее босоножки, и кот были мокрые. Ветер утих. Что-то надо было сказать коту (почему надо? Кто это услышал бы и поставил ей «зачет», кроме нас, конечно?). И она сказала именно то, что было нужно:
— Где же ты шлялся-то так долго?
Даже эта короткая фраза далась ей очень нелегко, конца ее кот, скорее всего, и не услышал. Даже мы, признаться, с трудом разобрали. Еще надо было покормить кота, и она покормила. И сразу нашлось чем, хотя, кажется, когда она уходила, холодильник был пустой. Продукты завтра утром должен был привезти муж.
Девочки спали. Ее не было минут пятнадцать, но они успели лечь и уснуть. Обе лежали на правом боку, закутавшись в одеяло до самого носа и даже носы норовя прикрыть ладошками. Она тоже легла и подумала, что вот, завтра снова просыпаться и вставать. Эта обычно безликая мысль на сей раз оскалилась такой тоской, что, не притупи ее наваливающийся сон, могла бы по-настоящему свести с ума.
Муж приехал раньше обычного. В восемь десять он был уже на станции, а в восемь пятнадцать открыл дверь с веранды в комнату. Жена и две дочки спали в одинаковых позах: на правом боку, сжавшись, спрятавшись, отвоевав себе кусочек времени и пространства, свободного от бодрствования. «Не трогать! Не беспокоить! Не приставать!» — сигнализировали три съежившиеся фигурки. Он-то спал на спине. Он не мог понять, как им не жарко и не душно, таким закутанным. Он вышел на веранду, прошелся несколько раз от двери до кошачьей миски и обратно, и к нему пришла простая-простая мысль, которая приходила часто этим летом, но так — на какие-то доли секунды, а теперь вдруг заняла собой все, как будто была сколько-нибудь значительной. Она позволила покрутить себя так и этак и выразить наконец: «Теперь они стали больше похожи на нее».
Николай Петрович, петербуржец, одна тысяча девятьсот семидесятого года рождения, инженер-строитель, устал. Он устал не так, чтобы придти домой, сесть у телевизора, блаженно положив ноги на подставленную табуретку, и чтобы жена Валя принесла ему чай. И даже не так, чтобы с кисло-сладким сожалением поразмышлять: «Вот не женился бы я тогда на Вале, а женился бы потом на Свете, всё было бы по-другому, разве такая получилась бы жизнь… А если бы пошёл всё-таки на архитектурный, всё-таки рискнул бы…». В том-то и дело, что ему вдруг показалось, что и со Светой, и после архитектурного, было бы то же самое. И без промозглого октябрьского дождя, а наоборот, в мае, и не в Петербурге, а, напротив, в Париже, было бы так же. И даже не так он устал, чтобы со спазмой в горле подумать, глядя на четырнадцатилетнего сына Артёма: «Совершенно чужой человек!». Не достало сейчас у Николая Петровича сил на эту спазму. То, что он чувствовал, сравнимо было разве с ощущением тридцатилетней давности: после того, как он полтора часа качался на качелях, но до того, как его от этого стошнило. Но за двадцать лет Николай Петрович ту тоску, конечно, забыл, и теперь не вспомнил. Зато пришла ему в голову мысль, которую он обычно и близко не подпускал, потому что она легко могла заставить его заплакать: «Только мама меня и любила, а она умерла». Мама умерла рано, чуть позже того случая с качелями. И вот, повернувшись лицом к стене, и осторожно, чтобы не заметила жена, плача, положив себе руку на лоб, как будто это кто другой его гладит, Николай Петрович уснул.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу