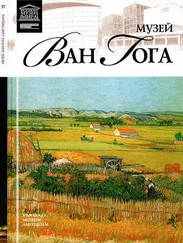— Теперь эти проблемы всё равно у неё скоро будут. А раньше сядешь — раньше выйдешь…
— Я уверена, что…
Да наплевать, в чём ты уверена! Тем более, что ты и не уверена.
— Как только диагноз поставили, меня сразу «положили». Они так говорят: «Мы вас положим» — очень бодрит. И в палате со мной довольно тяжёлый мужик лежал, простой такой хороший мужик, за пятьдесят. К нему дочка приходила, вот она ему и говорит: «Папа, папа, не умирай! Хоть до Нового года не умирай!». Ну, конечно, это же праздника не будет. — Он улыбается.
— Она всё равно его любила, — говорит Женя и в доказательство своих слов часто кивает, тем самым показывая, что врёт. — Люди не злодеи вообще-то, и даже много добрых, просто вести себя не умеют… И потом, вы-то поправитесь. Это только слово такое страшное, а сейчас это лечат, есть болезни гораздо ужаснее, а с этой человек живёт сто лет и умирает от чего-нибудь другого…
Спасибо тебе, химичка! Но только этого он уже вынести не может.
— Да? — спрашивает. — Да? — И желваки у него ходят. — Может быть, может быть… Много добрых. Но я не добрый, и не стал добрым только оттого, что заболел. И не собираюсь никому позволять быть добрыми за мой счёт. И делать вид, что верю утешениям, не собираюсь. И воздерживаться от слова «рак», чтобы никого не травмировать… А слово это ещё послужит, будьте уверены! — Он усмехается. — Пока я не знал, что оно имеет ко мне отношение, мне было легче, хоть и трудно было одолеть пятьдесят метров, а теперь, ничего, хожу, гуляю. Тюрьма. Ну ладно, всё.
Уходит быстро, без оглядки. Засунув руки в карманы. И то сказать — конец сентября. Красиво и солнечно. Пора надевать перчатки.
Женя дрожащими от холода и гнева пальцами нашаривает в сумке мобильный и «листает» телефонную книгу, ищет номер творческого работника, чтобы сообщить ему, злобно и хлёстко, что у них была любовь — не так называемая, не «типа», не привязанность, не влечение, а ЛЮБОВЬ — четвёртая стадия, неоперабельная, строгого режима, без права переписки… Уже на пятой фамилии чувствует, что страшно замёрзли руки. Засовывает их глубоко в карманы, вместе с мобильным. От такого — даже смешно — небольшого комфорта возвращается стыдливость: неприлично, не гуманно, не выговорить. Из-за этой стыдливости многие женщины проживают жизнь, так и не узнав, что они «последние б…», а тысячи пациентов одной шестой части суши ещё недавно чахли и умирали от «язвы желудка» или «радикулита», до самой смерти, однако, надеясь, что язву и радикулит вылечат.
Поднимает воротник, быстро идёт к метро, думает на ходу, и даже как будто не сама думает, а кто-то диктует в такт её шагам: можно, можно — говорить слова страшные и слова нежные, можно мыть окна и можно не мыть окон, можно целовать в губы — можно в спину, можно лежать без сна вместе или крепко спать порознь, — всё решают не поступки и не слова, всё решает время — непобедимое, невидимое как угарный газ, каждую секунду отдаляющее тебя и от человека, которого про себя не называешь по имени, поскольку он единственный и в имени не нуждается, и от других многих, — времени безразлично; время — навязывающее свободу, от которой ни одно слово и ни одна тюрьма не защитит, не надейся; время, время — которое, пока ты идёшь от поликлиники до метро и читаешь себе эту противную нотацию, многое успеет.
Мне тоже случалось просыпаться с ненавистью к родителям. В пятнадцать лет открыть глаза воскресным утром и услышать их жалкое воркование: «Смотри-ка, а полотенце-то совсем порвалось». Какая скука. Какой непроглядно тусклый день они проживут, на какой серый пыльный пустырь тянут меня вслед за собой. Беда ещё в том, что я понимаю, да и тогда-то смутно понимал, что никто никуда меня не тянет — наоборот, они меня забыли: они вдвоём, а я один. Я завидовал — даже их тоскливому альянсу, даже их счастью для старых, на которое никогда бы в то время не согласился. Бранясь со своим сыном или жалуясь на него кому-то, я даже не могу сказать: «Я-то не так относился к отцу… Мы-то себе ничего такого не позволяли…». Так. И позволяли. Точно так же не могу чуть ли не со слезами на глазах прошептать, обращаясь к своей покойной первой жене: «Милая, Лялечка, только ты меня любила, только ты была добра ко мне…». Оля была человек холодноватый и очень стойкий. За стойкость Господь, или кто там, вероятно, и послал ей крест по силам — гибкий такой, оплетающий человека крест по имени онкология. Я бы и ей позавидовал — нет, не предсмертным мучениям, разумеется, не катетерам, не тоненькому-тоненькому запястью, а тому, что её больше нет, и она не обязана, например, слышать музыку, я должен сразу сказать: я ненавижу музыку. Я бы и позавидовал ей, если бы мог представить себе это «больше нет» сколько-нибудь внятно. Мне это важно сейчас, во всяком случае, не безразлично. Пока не веришь, что с тобой это тоже будет, какая тебе разница, какие там интерьеры, условия и тому подобное. А теперь-то, конечно, хотелось бы какой-то ясности. Какой там звуковой фон, например. Возможно, и там музыка. Которую не выключить.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу