А ну вон отсюда! — кричит мать. — Вон, вон! Не надо мне тут этих ваших штучек! — выкрикивает она пронзительно, сердито, но в ее голосе слышится страх, а дальше я слов не разбираю — наверху она переходит из комнаты в комнату. Теперь я слышу другой голос — мужской, хрипло рокочущий и вроде бы знакомый, но слова звучат странные, я не могу их понять, хоть и навострил уши, стоя теперь уже во весь рост за углом дома. Мать снова что-то настойчиво требует, опять с оттенком страха в голосе, но мужской голос заглушает ее своим басистым рокотом, чуть ли не рыком. Вдруг голос матери переходит в стон, и долгий жалобный плач оглашает утреннюю тишину, у меня даже волосы на голове шевельнулись. В панике сперва я порываюсь бежать без оглядки, но какая-то неодолимая сила тянет меня к матери; я забегаю за угол, бросаюсь по ступенькам заднего крыльца, распахиваю кухонную дверь. Вот так-то, черт возьми, попробуй-ка моего толстого мерзавца, — слышится голос в полутьме, и, хотя я ослеплен, войдя с яркого света, и вижу лишь две смутные тени, борющиеся у входа в кладовку, я уже знаю, кому принадлежит мужской голос. Это белый по имени Макбрайд — зимой его взяли управляющим полевыми работами — раздражительный ирландец с пустым лицом, копной жирных темных волос и сильной хромотой; к тому же он пьяница и бьет негров кнутом, несмотря на запрет братьев Тернеров. Мать все еще стонет, а Макбрайд дышит прерывисто, громко и загнанно, как пес после долгого бега.
Сморгнув, я начинаю видеть яснее и замечаю сразу две вещи: густо пахнущие яблочным виски бутылочные осколки на полу и горлышко той же бутылки в руке Макбрайда, приставленное, как кинжал, к горлу матери. Спиной она лежит на столе, на нее всем весом навалился управляющий, который другой рукой рвет одежду на ней и на себе самом. Словно прилипнув к месту, я не в силах двинуться. Зазубренное горлышко бутылки падает на пол и рассыпается в мелкие дребезги, похожие на зеленоватый снег. Тотчас мать всем телом вздрагивает, и ее стоны приобретают иную интонацию — становятся какими-то во-прошающе-одобрительными, так что мне уже непонятно, стон это или всего лишь тихое воркование (что-то вроде “а-а? — а-а? — о-оо!”), к тому же голос Макбрайда, хриплый и возбужденный, все заглушает: “Ну вот, красотуля, ну вот, моя киска, получишь серё-оо-жаси”, и последнее слово переходит в судорожный вздох, при этом он быстро, конвульсивно дергается, а ее длинные коричневые ноги, взлетев вверх, охватывают его сзади, и они оба как единое целое движутся в том странном животном ритме, который мы с Уошем уже раз десять наблюдали, подглядывая в щели негритянских хижин, и который по недомыслию совершенной невинности я считал то ли игрой, то ли привычкой, то ли придурью — чем угодно, но свойственным исключительно одним только ниггерам.
Бросаюсь вон, бегу куда глаза глядят; желание одно — не останавливаться. Мчусь, поворачиваю за угол конюшни, мимо коптильни, мимо кузницы, где двое древних черных дедов, отдыхающих в тенечке, провожают меня лениво-недоуменными взглядами. Мчусь дальше, мимо овина, все быстрей, быстрей, срезаю через яблоневый сад, вдоль боковой стороны господского дома, мгновенным промельком вижу беловато мерцающую паутину и на бегу обираю с лица ее липнущие, сырые, невесомые лоскутья. Искрой боли босую пятку протыкает камешек, но ничто не может сдержать мой бег; край света — вот куда я устремился. На пути живая изгородь — прорываюсь, вылетаю на полосу выгоревшего на солнце желтобурого луга, над которым стайками трепыхаются крошечные бледнокрылые бабочки, похожие на лепестки незабудок, взмывающие вверх, чтобы не оказаться на моем пути. Мелькая ногами, размахивая руками, с ходу перескакиваю через только что вырытую канаву и опять несусь по ясеневой аллее в сторону проселка, как вдруг резко теряю ход, перехожу на медленную трусцу, которая превращается в быстрый шаг, и вскоре уже тащусь, еле волоча ноги. В конце концов останавливаюсь, глядя в лес, непроницаемой зеленой стеной встающий в заполье. Дальше некуда.
Долгие минуты стою в тени ясеня, успокаиваю дыханье, жду. Жара, безветрие. Вдалеке погромыхивает лесопилка, сюда доходит только неясный отзвук, тихий, я еле его различаю. В бурьяне, шурша, суетятся насекомые, их быстрая беспорядочная работа на слух напоминает распарывание швов. Стою, жду, долго стою, не в силах двинуться дальше, не в силах пошевелиться. Потом, наконец, разворачиваюсь и медленным шагом направляюсь обратно по аллее и через лужайку к дому, стараясь, чтобы Сдобромутр, который медленно елозит мокрой тряпкой по полу веранды, не увидел меня; затем осторожно, потихоньку развожу колючие перепутанные сучки и веточки засыхающего, полумертвого кустарника живой изгороди, бочком в рукотворную брешь протискиваюсь и нехотя плетусь через двор к окну кухни.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
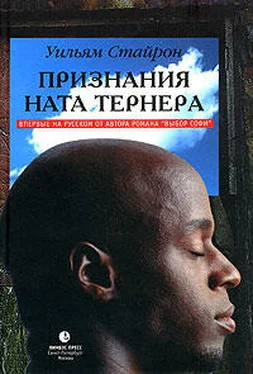




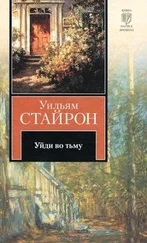




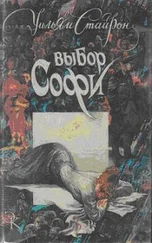
![Уильям Стайрон - Выбор Софи [litres]](/books/403897/uilyam-stajron-vybor-sofi-litres-thumb.webp)