Да, умышлениях, и не только злокозненных, но бестрепетно и страшно воплощенных на всем опустошительном пути безжалостных душегубов. Мольбы о пощаде не трогали их каменных сердец. Вспоминание прошлых к ним снисхождений нимало не умягчало наглости произволения бесноватой ватаги. Мужчины, женщины и дети, стар и млад — все подверглись единой жестокой пагубе. Ни одна орда дикарей в кровавом набеге не была столь щедра на расправу. В умножении же злодеяний их сдерживала, по-видимому, лишь боязнь собственной уязвимости. Такоже далеко не самое малоприметное в сей ужасающей истории — это вопрос о том, как случилось, что шайка, побуждаемая столь дьявольскими намерениями, оказала весьма слабое сопротивление, едва на ее пути встали белые с оружием в руках. Казалось бы, одно отчаяние и то способно было вызвать большее упорство. Но нет, каждый искал спасения поодиночке: пытаясь скрыться, либо воротясь домой в надежде, что его участие в смуте останется незамеченным, и по прошествии нескольких дней все были либо застрелены, либо пойманы, подвергнуты суду и казнены. Нат пережил всех своих соковников, но и его хождения вскоре прервет виселица. Обществу же для исследования предлагается его собственный отчет о заговоре в первоначальном изложении и без каких-либо сторонних толкований. Прочтение оного дает пугающий и, есть надежда, полезный урок касательно действия умов такого сорта, что силятся вступать в обращение с вещами, их постижению недоступными. Как поначалу ум его смущен был, сбит с толку, затем же растлился, и в окончательном помрачении злодей измыслил и совершил гнуснейшие, поистине душераздирающие деяния. Нелишне такоже, что сие, с одной стороны, показывает, сколь разумны и благоустроительны в обуздании упомянутой категории населения наши законы, с другой же, убеждает тех, кто казнью душегубов обнадежен, да и всех граждан купно, что исполняются законы неукоснительно и сурово. По-колику свидетельствам Ната можно верить, то планы и поползновения зачинщика были ведомы лишь нескольким ближайшим его подручным, а смута в округе — событие исключительно местное. И была таковая не сведением чьих-то счетов, не порывом внезапного гневного озлобления, но результатом заранее обдуманных и целенаправленных усилий закосневшего в лукавоухищрени-ях ума. Порождение угрюмострастного фанатизма, смута сия затронула материи слишком истончившиеся, изначально слишком к такому попранию готовые, и теперь надолго запечатлеется в анналах народной памяти; еще многие матери, прижимая к груди ненаглядное чадо, содрогнутся, вспомнив о Нате Тернере и его ватаге кровожадных выродков.
С верою, что нижеследующее описание, призванное осветить вопросы, каковые в ином случае неминуемо порождали бы догадки и сомнения, будет принято благосклонно, оное вниманию общественности почтительно преподносится. Ваш покорный слуга,
Т. Р. Грей
Иерусалим, округ Саутгемптон, Виргиния;
ноября 1831 года.
Мы, нижеподписавшиеся, члены Суда, собравшегося в Иерусалиме в субботу пятого ноября 1831 года для слушаний по делу негра, раба по имени Нат, он же Нат Тернер, ранее находившегося в собственности покойного Патнема Мура, настоящим удостоверяем, что записанные Томасом Р. Греем признания Ната прочтены в нашем присутствии подсудимому; за сим, когда председательствующий в суде спросил его, может ли он назвать какую-либо причину, по которой его не следует приговаривать к смерти, подсудимый ответил, что более сказать ему нечего сверх того, что он сообщил уже мистеру Грею. Собственноручно подписи и печати приложили в Иерусалиме, того же 1831 года, ноября, 5-го дня:
Джеремия Koбб <���печать>
Томас Претлов, <���печать>
Джсеймс У. Паркер, <���печать>
Кэр Боуэрз, <���печать>
Сэмюэлб Б. Хайнз, <���печать>
Орис А. Браун, <���печать>
И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло.
Над пустынной песчаной косой, что вытянулась у впадения реки в море, на сотни футов вверх вознесся холм или, скорей, утес — последняя, самая дальняя оконечность суши. Попробуйте представить себе этот утес, а под ним устье реки — широко разлившейся, мутной и неглубокой, подернутой складчатой рябью в том месте, где река сливается с морем и течение сталкивается с океанским приливом. Близится вечер. Погода ясная, все сверкает, и кажется, что всюду солнце, тени нет вовсе. Может быть, это начало весны; или конец лета; какое время года, не так важно, важнее то, что воздух мягок и благорастворен, нет ветра, нет жары, нет холода; будто и времени года никакого нет. Как всегда, я один и словно плыву на чем-то вроде лодки (маленькой-маленькой, то ли это каноэ, то ли каяк, я в ней полулежу, приятно откинувшись, — во всяком случае, у меня нет ни чувства неудобства, ни даже напряжения, и я не утруждаюсь греблей; лодка движется, вяло влекомая током вод), я тихо плыву в сторону мыса, за которым вширь и вдаль без конца и края раскинулось темно-синее море. На берегах реки безлюдье и тишь; ни зверь не прошуршит в подлеске, ни чайка не взмоет с нетронутого ничьей ногою песка. И так действует это полное молчание и совершеннейшее одиночество, что кажется, будто жизнь здесь не погибла даже, а исчезла, просто остановилась, и все это — берега, речное устье и морской прибой — навсегда останется неизменным под недвижным оком послеполуденного солнца.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
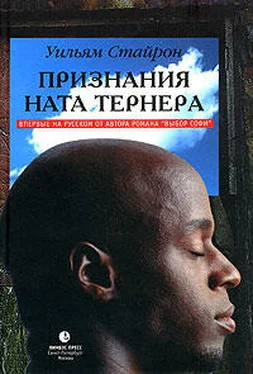




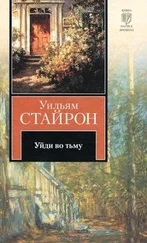




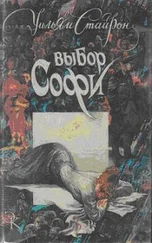
![Уильям Стайрон - Выбор Софи [litres]](/books/403897/uilyam-stajron-vybor-sofi-litres-thumb.webp)