А Бог-то твой — вона, во пса вселился! — слышится голос Харка. — Слышишь его, Нат? Это ж точно глас Божий. Господи, этот вой я сквозь все мои сны слышал. Мне снилось, что я опять у Барнетта, в давние времена, а я еще маленький, воробью по колено. И мы с сестрой Джейми вместе идем на болотину рыбачить. Идем это мы рядышком, а над нами дикие вишни, и мы счастливые такие, и все про рыбу говорим меж собой, которую собираемся поймать. Да только нас собака какая-то преследует, идет за нами по лесу и воет, и воет. А Джейми меня и спрашивает: “Харк, чего это собака там все надрывается?” А я ей отвечаю: да плюнь ты, говорю, на собаку, Джейми, не обращай внимания. И тут ты в стенку постучал, а собака — та же самая — все воет и воет на улице, а я, значиц-ца, тут, и сегодня меня повесят.
Воистину, гряду скоро...
Какое-то время я проспал без снов, потом внезапно проснулся и вижу: утро близится — появился бледненький морозный проблеск, втекает в зарешеченное окошко, едва заметно подкрашивает кедровые стены, будто под пеплом живы уголья умирающего костра. Где-то в полях за рекой, в низинах, схваченных морозцем, слышится грустный зов рожка — побудка, неграм пора за работу. Поближе — бряканье и еле слышный шорох: город просыпается. Одиночная лошадь — тракатитак — переходит деревянный мост, а где-то вдалеке поет петух, потом другой, вдруг замолкают; на время опять все тихо и сонно. Харк снова дрыхнет, воздух посвистывает в раненой груди. Я подымаюсь и, натягивая цепь, боком, боком подбираюсь к окошку. Склоняюсь, облокачиваюсь на ледяной подоконник, недвижно стою в пока еще всеохватной тьме. По краю неба, далеко-далеко за рекою, над темной стеной кипарисов и сосен проглядывает первой нежной голубизной рассвет. Я подымаю взгляд горе. Там в одиночестве на синем — стойкая, неподвижная, удивительно, несказанно яркая, сверкает утренняя звезда. Похоже, никогда не была она так лучезарна, и я стою, смотрю на нее не двигаясь, хотя холод от сырого пола охватывает и пронзает ступни ледяными иглами.
Ей, гряду скоро...
Минуту за минутой я стою у окна, глядя на нарождающийся, новый, еще не просветленный день. Позади, в коридорчике, раздается шум, Кухарь звенит ключами, и сквозь щелястую стену я вижу оранжевый свет фонаря. Шаги шуршат, хрустят песочком. Я медленно поворачиваюсь, вижу Грея. На сей раз в камеру он не идет, стоит в дверном проеме, смотрит внутрь, потом пальцем манит меня, мол, подойди. Я неловко, с усилием ковыляю, цепь тащится у меня между ног. Под фонарем я вижу, он что-то держит в руке; подойдя ближе, разглядел: Библия. В кои-то веки Грей выглядит смиренным, подавленным.
Вот, принес то, что ты просил, Преподобный, — тихо произносит он. И так он владеет собой, так спокоен, так сдержан, говорит с такой мягкостью, что можно подумать, будто передо мною другой человек. — Я сделал это против воли суда. На свой страх и риск. Но ты был со мной честен, не юлил... отдать тебе должное. Имеешь право на утешение, которого просишь.
И протягивает мне Библию через дверную решетку. Мы долго смотрим друг на друга, и в этом дрожащем, мерцающем свете фонаря у меня возникает странное чувство, тут же исчезнувшее, будто этого человека я вижу впервые в жизни. Я ничего не говорю ему в ответ. Наконец он тянется сквозь прутья и жмет мне руку; по какой-то странной неуверенности этого торопливого пожатия я чувствую, что он в первый раз жмет руку черному и, уж конечно, в последний.
Прощай, Преподобный, — говорит он.
Прощайте, мистер Грей, — отвечаю я.
Засим он уходит, огонь фонаря меркнет и угасает; опять камера полна тьмы. Поворачиваюсь, аккуратно кладу Библию на кедровую скамью. Я знаю, что теперь не стал бы открывать ее, если бы даже у меня был свет, чтобы читать. И все-таки ее присутствие согревает камеру; впервые с тех пор, как я в тюрьме, с тех пор, как я вижу перед собой его докучливое лицо, я чувствую сердечную жалость к Грею — как же скучны, как нескончаемы дни предстоящей ему жизни. Снова иду к окну, глубоко вдыхаю зимний морозный воздух. Он отдает дымком, горелым яблоневым деревом, и меня переполняют мимолетные, сменяющие друг друга воспоминания, такие скоротечные, что не поймать, — и все о дальнем детстве, о старых временах. Я облокачиваюсь о подоконник, гляжу на утреннюю звезду. Ей, гряду скоро...
Воистину, гряду скоро...
Когда я думаю о ней, меня переполняет желание, терзает тоска по ней столь великая, что сердцу, кажется, не вместить ее, как не поймать и тех воспоминаний — о давних временах, забытых голосах, протекших водах и вздохах ветра. Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Такой знакомый, ее голос близок, реален, на миг я принимаю слабое дуновение ветра на моем ухе за ее дыхание и поворачиваюсь, взыскуя во тьме. И несмотря на холод, ужас и пустоту, в чресла мои вливается тепло, и по ногам — мурашки желания. Трепеща, я собираю в памяти черты ее лица, пресотворяю юное тело, и с такой вдруг яростью жажду ее, что мука превыше всякой боли охватывает меня; нежно поглаживая, я достигаю излияния своей любви в нее, выплеск за выплеском; она льнет ко мне, выгибается, вскрикивает и соединяется — белая с черным — воедино. Медленно я погружаюсь в забытье. Голова клонится на подоконник, дыхание тяжко. Перед глазами тот луг, июнь и тихий тающий голос: Разве не так, Нат? Разве не говорит Он: “Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя”.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
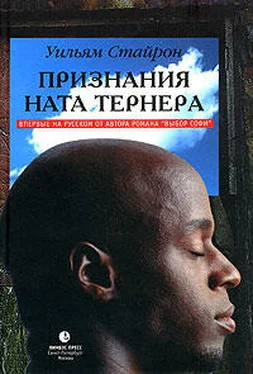




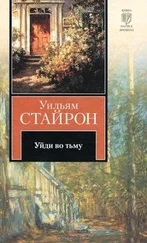




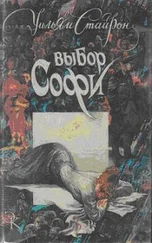
![Уильям Стайрон - Выбор Софи [litres]](/books/403897/uilyam-stajron-vybor-sofi-litres-thumb.webp)