И даже здесь, посреди города, в воздухе стояла дымка с запахом дальних пожаров.
Внезапно я услыхал какой-то шум — смех и крики, исходившие от кучки белых мужчин, собравшихся у стойла позади кузницы футах в пятидесяти через дорогу. Голая земляная плешь за кузницей служила местом субботних сборищ местной белой бедноты так же, как рыночная галерея стала точкой, где сходились пути всех негров. В этой толпе белых большинство было, естественно, бездельники, жулье и всякие подонки: пропившиеся забулдыги, калеки, завсегдатаи помойных куч, безработные батраки, лишившиеся места надсмотрщики, пришлые шалоброды из Северной Каролины, мелькали какие-то дикие личности с заячьей губой, косматые самовольные поселенцы с брошенных пустошей, неисправимые попрошайки, дебилы, мошенники и дурни всех мастей — в общем, такой сброд, по сравнению с которым мой хозяин представал исполненным благородства мудрецом под стать царю Соломону. Там, у стойла за кузницей, в своих соломенных шляпах и дешевых бумазейных комбинезонах они по субботам собирались бестолковой гудящей толпой, выклянчивали друг у друга кто зубок жевательного табака, кто глоток самогонного виски и безостановочно (совсем как негры) чесали языками про письки и сиськи, изыскивали, где бы по-легкому разжиться долларом-другим, мучили бесхозных собак и кошек, давая возможность рабам с их рыночного возвышения наблюдать бодрящее зрелище множества белых, которые — по крайности в некоторых немаловажных аспектах — устроены в жизни хуже них самих. Я поглядел, что за ерунда там происходит? — вижу, они встали в неровный круг. В центре верхом на лошади высилась кургузая, сутулая фигура Натаниэля Френсиса, вдрызг пьяного и с дурацким восторгом на опухшей физиономии любующегося чем-то происходящим на земле. Мне было лишь слегка любопытно — думал, там у них борцовский поединок между белыми или пьяная драка: редко какая суббота проходила без чего-нибудь в таком духе. Однако за мешковатыми штанинами кого-то из зевак взгляду открылось нечто вроде двух негров, которые передвигались, занятые непонятно чем. В толпе раздавались смешки и улюлюканье, дикие выкрики и радостные междометия. Похоже, там подбадривали негров, стравливали их, а пьяный Френсис гарцевал и выплясывал на своей кобыле, объезжая толпу по внутреннему кругу, и поднимал при этом тучи пыли. Харк даже привстал в изумлении, и я ему сказал, что лучше бы он пошел да выяснил, что происходит; с некоторою неохотой он отправился туда.
Через пару минут Харк возвратился на галерею со сконфуженной полуулыбкой — никогда не забуду этого выражения на его лице, этой смеси насмешки и недоумения; я на него только глянул и сразу заподозрил неладное, как будто знал заранее, секундой раньше, чем он открыл рот, уже чувствовал, что он скажет.
Опять этот Френсис — он там для белой швали развлечение устроил, — объявил Харк довольно громко, так что услышали и другие собравшиеся негры. — Пьян до поросячьего визга и желает, чтобы Билл с Сэмом передрались. Ни тот, ни другой драться не хотят, но только один отступит, не ударит другого, Френсис его бац кнутом! Так что ниггерам, хошь не хошь, приходится лупцевать друг друга, и вот Сэм Биллу уже фонарь с кровянкой поставил, а Билл ему, по-моему, вышиб передний зуб. Ей Богу, петушиный бой, да и только!
Среди окружающих нас негров послышались смешки — действительно, было что-то странно комичное в том, как Харк об этом рассказывал, а у меня сердце замерло, и все внутри заледенело. Это был конец. Все! Все гонения, все унижения, которые претерпевают негры — то, что ими помыкают, истязают их непосильным трудом и неволей, заковывают в цепи, подвергают надругательствам, побоям и разлучают с близкими — это, конечно, гнусно, но чтобы такое! Как загнанных в угол зверей заставлять драться с таким же, как ты, на потеху... — Господи, да если бы хоть людям на потеху, а то этим — падшим, опустившимся, никчемным и презренным созданиям, в устройстве мира стоящим лишь на волосок повыше, и то единственно в силу того, что у них светлее кожа. С того самого дня, когда меня впервые продали, не пылал я такой яростью, таким неутолимым гневом. Он всколыхнул во мне воспоминание о ярости Ишама, наоравшего на Мура, и разжег давно тлевшее, глубоко спрятанное чувство жгучего бессилия, впервые появившееся в далеком, смутном детстве, когда из мирных господских бесед на веранде я впервые понял, что я раб и останусь рабом навсегда. Сердце, как я сказал уже, сжалось во мне, умерло, исчезло, и, как нерожденное дитя, разрослась и заполнила пустоту внутри ярость; именно в тот момент я понял: будь что будет, ни сомнения, ни опасности не отвратят меня от задуманного, и настанет время, когда ни юную нежную деву, безмятежно срезающую сейчас цветочки в родительском саду, ни хозяйку дома, устроившуюся с вязанием в руках в прохладе гостиной своей сельской усадьбы, ни безвинного мальчишку, что присел, обозревая затянутый паутиной дальний угол сортирчика, торчащего на краю цветущего поля — никого из белых не минует мое возмездие, весь их мир падет и рухнет по моему мановению, расколется и погибнет от моей руки. У меня даже подкатило к горлу, и я чуть не сблевал себе под ноги.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
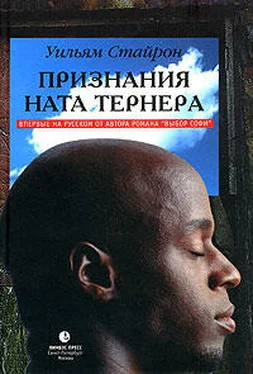




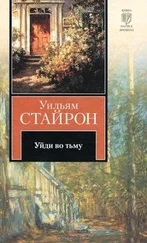




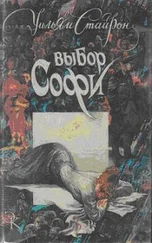
![Уильям Стайрон - Выбор Софи [litres]](/books/403897/uilyam-stajron-vybor-sofi-litres-thumb.webp)