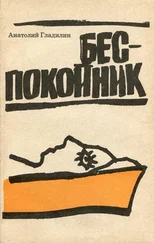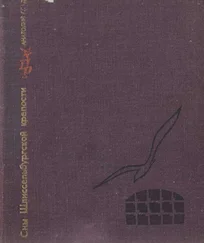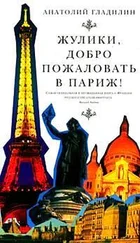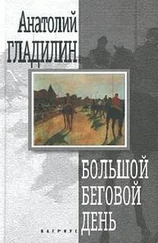Однажды мы с ребятами были на озере Рица. Там великолепны само озеро, дорога, горы, лес.
— Ну как? — спросил я ребят.
— Здорово, — сказали они, — но ты посмотри, вон у машины такая девочка!
К ночи «Композитор» подошел к Енисейску. На верху темной деревянной башни прибита доска, и, кажется, рука с вытянутым пальцем показывает на пристань.
Всюду лужи, оставшиеся, по-моему, еще с прошлого года. Город в одиннадцать часов спит. Только на пустынной центральной улице на полную мощность играет радио. Бегают большие тихие собаки. Несколько сохранившихся купеческих особняков.
Переулочки резко бросаются к реке, прорезая оврагами высокую набережную. Над откосом, на скамейке, парень обнимает девушку.
Типичный старый русский город. Сколько я таких повидал!
И еще один день прошел. На коротких остановках местные жители штурмовали буфет. Пиво выносили ведрами.
Берега опустились. Через пару часов глянешь в окно — одно и то же. Как будто стоим на месте.
Ночью я дежурю в рубке. Ждем огней встречного теплохода. Иначе меня так далеко увезут, что вернусь только в сентябре.
Останавливаемся у деревни Лебедь. Остановка здесь не предусмотрена. И нет даже причала. Но у нас на борту мужичок с бабой, а с ними… четверо ребятишек. Женщина, держа в руках двух самых маленьких, уговорила капитана остановиться.
«Композитор» кинул якорь метрах в пятидесяти от берега. Дали два гудка. На берегу кто-то забегал, засуетился.
Встрепанный, нечесаный, приходит на моторе лодочник. Мужичок пытается спустить мешок.
— Детей давай! — кричит лодочник. — Детей!
Лодка наполовину затоплена.
В три часа ночи разворачивается встречный теплоход. Теплоход переполнен, и меня поселяют в каюте первого механика. Он болен и остался в Красноярске. На тот путь, который я прошел за сорок восемь часов, теперь придется затратить четверо суток.
* * *
Здесь был старый капитан, который поначалу отнесся ко мне весьма сурово. Но мой альбом действует как волшебный ключ, как магический пароль «Сезам, откройся».
И хорошо, что я успел сделать «дежурные» наброски на капитанском мостике. Потому что дальше произошло непредвиденное.
Я спустился в четвертый класс. Там было душно и пахло портянками и пеленками. Там на всю мощь играло радио (сотни раз — «Я люблю тебя, жизнь», — так же можно повеситься), там забивали «козла», пили водку, там орали дети, а один бородатый мужик обольщал какую-то молодку. Огромный твиндек, разгороженный двухэтажными полками, жил своей особой жизнью. Здесь не бегали в ресторан, а вынимали из мешка огурцы и хлеб, шли в буфет за консервами и даже умудрились как-то стряпать суп. Ей-богу, как они это делали, я до сих пор и не понял, но первое, что я начал рисовать, это трех женщин, уплетающих содержимое большой кастрюли.
Сначала дежурный матрос, который меня привел вниз, вежливо говорил:
— Граждане, не напирайте!
Потом уже местные энтузиасты взялись наводить порядок.
— Ну, ты, куда прешь? Видишь, свет загораживаешь.
А я сидел и рисовал лица. Одно за другим. Портреты, написанные быстро и неровно, приводили четвертый класс в детский восторг:
— Смотри, как похоже!
И может быть, на палубе, из первых и вторых классов, нашлись бы тонкие ценители рисунка, которые бы со знающим видом говорили:
— Эта линия не так, и слишком мрачен фон.
А здесь все принималось сразу, такое, каким вышло из-под карандаша. Я уж не знаю, в какой манере я работал. Главное было — уловить характеры в лице.
Нет некрасивых человеческих лиц. Все лица по-своему красивы. И даже в очень замкнутом лице, с близко поставленными глазами, с коротким носом, низким лбом, злым, тонким ртом можно найти свою гармонию, свою, присущую только этому лицу, индивидуальность. Очень часто в суровом, обветренном лице мужчины угадываются мягкие, нежные черты его матери. И я настолько представляю эту женщину, ее взгляд, ее улыбку, что мог бы без натуры нарисовать портрет. Самое лучшее, совершенное, что есть на земле, — это человеческие лица, это особый, уникальный мир каждого «я». На каждое лицо человека жизнь, самый лучший в мире художник, как на белое полотно, накладывает свои черты. И так появляются характеры, появляется доброта и злоба, подозрительность и доверчивость, честность и хитрость, появляется все, что волнует человека, все, чем жив человек. И может, когда-нибудь я напишу картину, которая будет называться «Земля». И на ней изображу не глобус, не бескрайние поля пшеницы или снежные горы. Нет, на огромном полотне будут одни лица. И наверно, мечта каждого настоящего художника — это успеть нарисовать лица всех людей.
Читать дальше
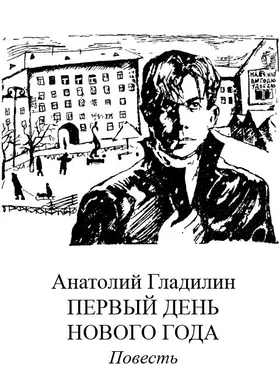
![Анатолий Приставкин - Первый день – последний день творенья [сборник]](/books/34293/anatolij-pristavkin-pervyj-den-poslednij-den-t-thumb.webp)