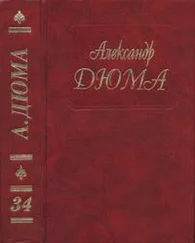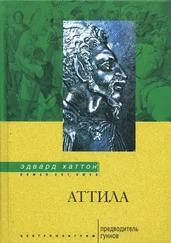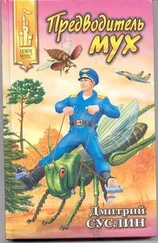Я прихожу домой, и меня охватывает сонная одурь. Мне тут тупо. Я вертела и так и сяк мёбель, но не получается — никак не нащупать нужные энергетические углы и точки, всюду неуютно и зажимисто и тревожно, что переставят и запутают. Старший сын затянулся в тину Интернета. Младший приходит и мается, мается. Стол его письменный это свалка, ему на нём неудобно. И у меня стол — свалка, мне тесно, он сам собой стал подставкой для огромных лимонных деревьев до потолка, на нем лежит кот среди банок с кнопками, карандашами и прочим хламом. Мы изнутри какие-то скукоженные и повязанные веревьями. И тишина. Я боюсь музыки. Музыка — это очень нервно. Если уж музыка поёт, то она меня совсем порабощает, она раскачивает мой эмоциональный аквариум, я начинаю вся внутри колыхаться, пафосничать, у меня то слёзы подступают, то мечты о несбыточном душат, жалко себя, жизнь свою загубленную и зря пролёженную на диване, кулачки сжимаются, и одиночество, одиночество. Ваше отечество — это одиночество. Ваше естество, величество, девичество, мужество, почвенничество. Какие то всё платформы и фундаментальные состояния среднего рода, какие то нули бесполые среднего рода. Хотя это всё ложь и слабость. Вот — полк детей рядом, какое ж одиночество.
А время мы проводим так. Мы молчим. Я не знаю, о чём с детьми говорить. Я так привыкла к тому, что в доме говорить ничего и ни о чём нельзя, лет с 12 привыкла — матушка тут же тупой и злой клюкой забьёт. И я так и живу молча, молча уже и перед детьми своими. Дети иногда со мной говорят, но беседы получаются весьма примитивные и животные. Поел, поспал, помылся, пописал. Иногда — об иудохристианской цивилизации и о четвёртом рейхе со старшим, иногда об экзистенциальном — с младшим.
Мне всегда не хватало тёплой животности семьи — мягких пухлых диванов, одеяла пушистого, столика под носом, тарелки на коленях, хлопчатобумажных портков разнузданных. И я это сделала. Все жрут предельно комфортно: то бишь каждый уносит плошку в удобное место — под экран телевизора или компьютера. Мы все расслабились. Нет чинного стола, вокруг которого надо сидеть по стойке «смирно». Можно в своей норе почавкать, порыгать, пёрнуть, плюнуть в тарелку, а потом опять дожевать. Или втихоря дожрать вкусный кусок из грязной тарелки в мойке, пока воды нет, за кем-нибудь, пока никто не видит, а то блеванул бы и стал ругаться бы. Расслабуха и кайф. И я никого не напрягаю беседами, и, боже упаси, поучениями. Иногда находит: заставляю Митьку убрать хлам на письменном столе. При этом я чувствую себя садистом, измывающимся над маленьким Кибальчишом, под видом классовой борьбы.
Скука, полное неумение организовать совместное действо внутри квартирки. Все действа — вовне. Хотя какие там действа? Потрындеть, посидеть в кафе, прошвырнуться туда сюда. Вот и вся свобода человеческой жизни, бля. Как человек изнывает от своей свободы! Какие вериги неподъёмные для человека — его свобода! Вот открыл глаза — и ужас, свобода перед носом. Пустой звонкий куб комнаты, наполненный звенением слежалых вещиц, свидетельств твоих слабых потуг чем-то увлечься и что-то полюбить. Есть люди, которые могут поразвлечь, но это не те, что в быту с тобой упрессованы. И мы все тяжко скучаем друг с другом, у всех сердечко ищет теплоты и задушевности духовной где-то вовне, на стороне. Все мы стрекочем по телефону так, что аж провода накаляются. Старший весь вылез в Интернет, младший лезет туда же. Там, в виртуале тепло, радостно, в дому — скука.
Ещё я думаю, что виртуал приятней из-за отсутствия физического тела в нём, не надо телами соприкасаться, глаза куда-то пялить, руки-ноги куда то девать. А быт раздражает, так как нора мелкая, выйдешь в коридор метр на полтора, а там санитар леса — мамашка моя, бабушка детишек моих, как выпрыгнет, как прижмёт к стене, как начнёт глазами по твоему телу бегать, гадости запредельные говорить, всё не в тему, всё из мира фантазий и всё направленное, чтобы меня подавить и раздавить тяжкой пятой маразматического истерического материнства. Да пошла она нах со своими поучениями. Если ж не смогла бабушка повампирить, крови попить, если я быстренько так незаметно уныриваю в свою норку или на улицу выскальзываю, то она принимается физически вонять и чадить — как продолжение своего шпилящего монолога. Бросает на сковороду шмат масла, во всю катушку включает газ — греет внучику ужин. Выжигает весь кислород в крошечной квартирке. Дым, чад, гарь, взвешенные частицы жира липнут к потолку и ко всем вещам. Как в рекламе про какое-то масло. Как масло называется — хоть убей не помню, а бабка в рекламе отличная, жизненная, злочадящая.
Читать дальше