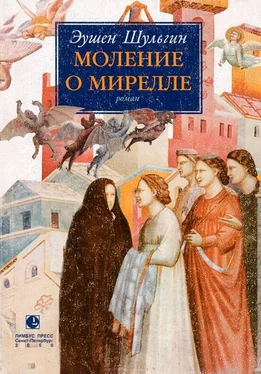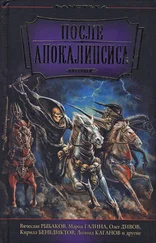К монашкам мы все же сходили. Мирелла уверяла, что родители непременно пошлют следом старшего брата проверить, были ли мы там. Я видел, как он рассматривал томных учениц, точь-в-точь девиц для «этих» развлечений, и легко представил брезгливое выражение его лица, когда он ябедничает взрослым, что мы, конечно же, опять ослушались. Это решило сомнения, я сдался.
Мы балансировали на балюстраде вдоль Арно. Бежали и отдыхали. Носились с криком и хохотом. Солнце болталось над рекой, как красный попрыгунчик на невидимой нитке. Оно то ныряло в облаковый поезд над морем, то вдруг ошпаривало тебя холодом, заскочив под куртку.
Мы у цели. У деревянных, настежь распахнутых ворот. Взгляд соскользнул к подстилке увечного, но его не было, тротуар чист. Слабое пение сочилось изнутри.
— Пошли, — велела Мирелла. — Давай быстренько, а то опоздаем!
Куда опоздаем? Я никуда не спешу. И даже не прочь слегка задержаться.
Мирелла уже сорвалась с места. Хоть бы оглянулась! А идет, как у себя дома!
Она привела меня в большущий зал. Белые стены, пахнет известкой и влажными кирпичами. В противоположном углу висит исхудавший Иисус. От боли он прямо дугой выгнулся, а кровь тяжелыми шариками течет по лбу, и из развороченной раны в боку. Капает и с рук, и с ног, а глаза он зажмурил, чтоб не смотреть, что с ним сделали.
Комната наводнилась монахинями, они втекли в дверцу в самом дальнем конце, пели и все держали руки на животе. Они шли с закрытыми глазами, а рядом с ними дергался еще один ручеек из каких-то ободранных, недоделанных существ.
— Посмотри на них, — жарко зашептала Мирелла мне в ухо. — Они идут с мессы!
Процессия приблизилась, и я понял, что они не просто грязные и ободранные, а убогие. Калеки или слабоумные. Все это ковыляло, тащилось, шаркало, едва ползло под аккомпанемент пения монахинь, точно хромоногая с одышкой кляча-доходяга.
Вошла новая группа монахинь с такими, кого нужно подстраховывать или носить. Последней появилась здоровенная силачка с «моим» нищим на руках. Она несла его как ребенка, а он положил голову ей на грудь и, казалось, спал.
Над ними будто дрожит паутина, сотканная из псалмов и шума, подогретого голодом и ожиданием. Но время еще не вышло. Чего-то не хватает. Стоя вдоль длинных столов, все стерегут свои места. Сесть разрешили лишь обезноженным. Пара дурачков накинулась было на хлеб, но остальные решительно поставили их на место. Но вот и главный, наконец-то!
— Это priorinnen, мамина подруга, — школьным тоном объяснила Мирелла. Priorinnen прошествовала к столам Лицо — народившаяся роза. Налитые щеки, но губы сжаты, и дырявит человека взглядом, пока он не сцепит руки и не склонит голову. Непроизвольно все так и делали — даже я. Застольная молитва прокатилась по комнате, благословили пищу, потом нас. С воплями, скрипом и раздирающими криками они расселись. Под общий рокот внесли суп.
Что бы такое сделать с глазами? Пиршествующие словно приворожили меня. И не оторвешься от этих лохмотьев, обрубков, искореженных и сморщенных безысходностью лиц с белыми или черными провалами глаз. Запах нужды щекотит в носу, как нашатырь. И эти их зрачки, такие размытые, такие пустые, такие… Что там в них? Мольба, жадность или только ненависть и лживость? Нет-нет, это глаза муки мученической, бездонной. Люди, приговоренные к вечной беспомощности. От всего этого ужаса я едва не «поплыл». Трудное зрелище. Я дрожал от собственной никчемности. Подступили слезы, я испугался их до судороги во всем теле. Метнулся искать самого целого, самого нормального, чистенького, молодого — детское личико. Они мелькали меж взрослых, но чуть мой взгляд успокаивался на одном из них, ребенка будто кусали. Младенцы дергались так, точно я делал им больно. И мой взгляд суетливо торопился дальше. Зал кипел и клокотал. Как их много! Они лакали, чавкали, лизали и заливались. Они зубами отдирали кусья от буханок и глотали не разжевывая или крошили хлеб в суп и лакали это месиво, обнажая коралловые десны. Они базарили и сцеплялись из-за горбушек. Одни норовили припрятать что-нибудь в своих лохмотьях, другие тут же утягивали у них добычу. Они гомонили, ржали, рыдали и бились.
Но сколько мощи в этих человеческих обгрызках! Сила и решимость жить брызжут из каждой глотки, а дети собачатся и друг с другом, и со взрослыми. Кусаются, извиваются, молнией уворачиваются от ударов — а не успел, так безжалостно швырнут на пол, пнут и отметелят. И все время в гуще монахини. Подсаживаются к тем, кто не может есть сам, и кормят их, берут на руки крошечных оборванцев и — раз-два! — чистят им нос, утирают грязь с лица, ободряюще гладят по головке недоумков. И все время, все время, с неизменной мягкой, серьезной улыбкой. Неизменная улыбка! Уму непостижимо!
Читать дальше