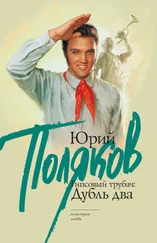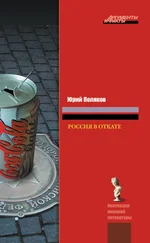…А что он потерял от развода? Все: Елену, которая никогда бы его не предала, дочь, радующуюся теперь, что у него, как и у матери, рак. Ну хорошо, допустим, разошлись… Федька Мреев вон четыре раза сбегался-разбегался. В молодости все разводятся, ищут, постельничают. Но нельзя было отдавать Настю, надо было ее видеть, воспитывать, одаривать, любить! Писодей вообразил, как он бережно ведет по «Аптекарскому огороду» маленькую большеглазую девочку, вцепившуюся в его отцовскую руку, как они стоят на мостике и кормят хлебными крошками оранжевые тени золотых рыбок. Кстати, воскресного папашу всегда можно узнать в городской толпе: он слишком внимателен к ребенку, всем своим видом доказывает прохожим: это мое, мое, мое! На глупые детские вопросы, от которых обычные родители сердито отмахиваются, он отвечает раздумчиво, подробно, даже занудно, гордясь своими невостребованным педагогическим талантом: «Видишь ли, доченька…» Впрочем, детские вопросы не всегда глупы. Например такой: «А я тоже умру?»
Сам Кокотов спросил об этом мать, когда ему было лет семь. В соседнем дворе, через улицу, хоронили пожилую женщину. За панельными восьмиэтажками, в глубине квартала, уцелели старые потемневшие избы, крытые крашеным железом, окруженные палисадниками с сиренью и даже огородами с весело цветущей картошкой. Поэтому и похороны были не городские: приехали, забрали, увезли, зарыли, — а настоящие, деревенские. Гроб, обтянутый красной материей в оборочку, стоял на табуретах посреди двора, кругом толпились, прощаясь с покойницей, соседи и любопытные. Двор-то был проходной. Она лежала вся в белом. Маленький Кокотов внимательно слушал взрослые перешептывания о том, что усопшую хоронят в свадебном платье, которое не пригодилось, так как жениха забрали на войну, где он пропал без вести. И все бы ничего: отплакала бы, как остальные, и сошлась с другим, но кто-то из дворовых фронтовиков-инвалидов то ли по доброте душевной, то ли желая выпить на дармовщинку, сболтнул, будто видел жениха живым в госпитале. И невесту замкнуло. Намертво. Навсегда. Она никого больше не слушала, ждала, верила, замуж не вышла, старилась, болела и перед смертью завещала похоронить ее в свадебном наряде. Просунувшись меж взрослыми, Андрей приблизился к гробу и рассмотрел синеватое, как накрахмленное белье, лицо умершей — с запавшими глазами, разочарованно ослабшим ртом и носом, похожим на клювик. А ведь Кокотов помнил ее живой, она по выходным сидела на лавочке со старухами и провожала его дотошным взглядом, когда он бежал к Понявину в гости — в барак…
— Говорят, целкой умерла… — послышался мужской шепот.
— Да-а, честное было поколение!
Вообще-то «целкой» называлось такое положение фантиков во время игры, когда один квадратик, сложенный из конфетной обертки, едва касался другого. Если удавалось загнать свой фантик под фантик соперника, это был выигрыш — «подка». А «целка» как бы не считалась. Но рано озаботившийся Борька Рашмаджанов уверял, будто это слово имеет еще одно, стыдное значение, относящееся к ночным родительским шорохам и вздохам. Вот, оказывается, почему, когда во время перемены мальчишки играли на подоконнике в фантики и орали, обсуждая спорные моменты: «Целка! Нет, подка!» — учительницы как-то странно на них оглядывались, а молоденькая географиня даже краснела…
За этими размышлениями маленький Кокотов не уловил момент, когда гроб подхватили крепкие доминошные руки дворовых мужиков и метнули его, как в казенник орудия, в квадратную заднюю дверь автобуса-катафалка. А ночью будущий писодей вдруг проснулся от животного ужаса и вскочил на постели, навсегда поняв, что он тоже когда-нибудь умрет. И не только впервые осознал это свое будущее отсутствие в продолжающемся мире, но ощутил его физически — как тошнотворное зияние в самом сердце. Мальчик громко заплакал, точнее, завыл, заскулил, но испуганной спросонья матери правду не сказал, наврал, будто жутко заболел зуб, на самом деле слегка нывший.
Это зияние осталось в сердце навсегда, порой оно затягивалось тонкой пленочкой, как ребячья ссадина, и почти не тревожило. Но вдруг ночью, без всякой внятной причины, пленочка лопалась — и по всему телу из сердца растекался ледяной ужас небытия. И Кокотов, вцепившись зубами в подушку, сотрясался от рыданий, которые, утомив, измучив, превращали нестерпимый страх в тупое отчаянье. Утром, идя в школу, он только бессильно удивлялся тому, что торопливые люди вокруг, зная о своем неизбежном исчезновении, могут вот так жить, работать, растить детей, даже смеяться…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу