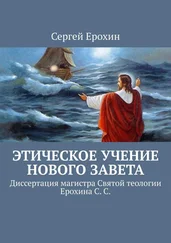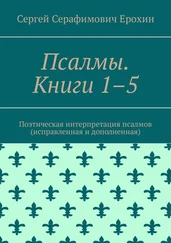Мне это напоминает ситуацию в Соединённых Штатах после великой депрессии, когда в расправившей плечи стране в моду вошли биг-бэнды. И вот энергичные импрессарио стали разыскивать по всей ...Америке забытых публикой, перебивавшихся мытьём посуды старых джазменов, вставлять им зубы, покупать инструменты и сажать в самые респектабельные оркестры Чикаго и Нью-Йорка: эра Вуди Германа, Каунта Бейси и Дюка Эллингтона (большой свинг).
Дел не было никаких, в библиотеку не пускали (библиотека была не блажью, а производственной необходимостью: это сейчас любые книжки переводятся да продаются, а в начале семидесятых мы читали, можно сказать, исключительно американскую литературу, которая обреталась вся в научных фондах, а зачастую и в спецхране, куда к тому же ещё не каждый мог попасть).
Мой начальник по фамилии Дубровский, когда я вякнул что-то насчёт библиотечного дня, вяло постучал пальцами по столу и философически произнёс:
— Банный день... Библиотечный день... Нет уж, сиди лучше здесь.
Я и сидел, изнывая от безделья, — как, впрочем, и все управленцы во главе с добродушным начальником.
Иногда, правда, выезжал на автобазы — проведать своих приятелей, которых, кого смог, распихал по подведомственным мне шарашкам (от меня требовали набрать штат — я и набрал: киноведов, психоаналитиков, поэтов...).
Зина Метнер жаловалась: ей дали каморку, общую с отдыхающими от рейсов шофёрами. Как-то её вызвал к себе директор. Она оставила на столе раскрытую книгу — кажется, "Эстетику" Гегеля. Возвращается и застаёт следующую картину. Вокруг Гегеля рядком сидят водители, забросив костяшки домино. Один зачитывает фразу вслух, а остальные валятся под лавки от хохота.
Другого моего коллегу — по фамилии Шапиро — директор автобазы пригласил в свой кабинет и конфиденциально попросил:
— Моисей Израилевич, у меня есть пять минут свободного времени. Скажите мне — только честно: что такое эта ваша социология?
От нас ждали, как я уже сказал, планов социального развития коллектива: сколько будет женщин и мужчин, лиц со средним образованием, плавательных бассейнов и детских садов на данном заводе или в отрасли (в зависимости от уровня системы) через десять лет. Написать можно было все что угодно — никто этих планов все равно не читал; но полагалось, чтобы планы были — их требовал Совмин.
Довольно ловкий и оборотистый сотрудник Плехановского института Аристарх Платонович Обдунин, смекнув, в чем дело, враз сделался специалистом по составлению таких бумажек. С трафареткой (по типу тех, которыми Маяковский множил, а потом раскрашивал свои плакаты РОСТА) он разъезжал по Северу и всюду мигом ублажал умаянное Москвой начальство, вставляя в готовенький план наспех подсунутые ему на местах или просто взятые с потолка цифры, — за что и получал, конечно, по-северному. Да ещё завёл в тех приполярных вотчинах красавицу-вдову и похвалялся, что приезжает к ней, как к себе домой.
Обдунин сумел между делом написать и даже, кажется, защитить диссертацию: "Материальные стимулы как моральный фактор".
...Помню, когда ужесточили режим в ЦНИПИАССе, я детально изучил, сидя там, "Метафизику" Аристотеля, а заодно и "Физику".
Юра Будаков от отчаянья повесил на спинку стула старый пиджак и исчез, создав эффект присутствия.
Полгода никто ни о чем не догадывался, пока не взбунтовалась бухгалтерия: он не являлся даже за зарплатой.
Коля Сверкун возложил на свой стол клеёнчатый портфель и был таков. На его беду, директор Гусаков, зайдя через несколько недель в отдел науки и заподозрив неладное, засунул руку в сей подозрительный предмет и вдруг, побелев от изумления и гнева, вновь узрел её — свою родимую властвующую руку: портфель оказался мало того что пустым — в нем не было дна...
Естественно, нас всех через четыре месяца сократили, тем более, что научно-технический отчёт, представленный всеми тремя группами нашего отдела в конце года, содержал всякую блажь — от неокантианства до китайской философии — и явно не имел ни малейшего отношения к проектированию автоматизированных систем в строительстве.
Мне рассказывали ещё более интересные вещи о всяких "почтовых ящиках", где люди летом день-деньской загорали на крыше. Но это, собственно говоря, по производственной полезности мало чем отличалось от вязания чулок, выпуска стенгазет или разгадывания кроссвордов, за которые никто никого никогда в жизни не упрекнул. У нас в ЦНИПИАССе, в соседнем отделе, работал мужик с одутловатым и бледным лицом, который постоянно, с утра до вечера, курил, стоя на лестнице, — и ничего. Ему бы, пожалуй, и молоко могли давать за вредность — если бы подобное пришло кому/ нибудь в голову.
Читать дальше