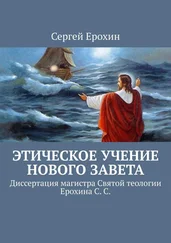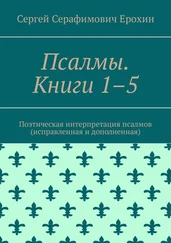Не все были такими грамотными, как диссидентский юрист. Властей боялись. Надеялись на добрые взаимоотношения, не понимая: человек на работе, он — охотник, а ты — жертва. Единственный разумный выход — не входить в контакт. А уж если привезли в наручниках — требовать протокола. И не подписывать, если что-то в нем не так. А не подписанный тобой протокол ни один прокурор у следователя не примет — швырнёт да ещё скажет, чтобы задницу им подтёр: нет подписи — значит, филькина грамота, а не следственный документ. Время-то было уже не сталинское, система-то уже трещину дала.
Помню, как попался на крючок чекистской задушевности Женя-католик (не трудись, Геннадий: имена изменены). Уж сколько раз я ему говорил: не ходи, не встречайся с дядей-сыщиком в курилке библиотеки. Пошёл. И раз, и два. На его показаниях, в основном, было построено потом обвинение, по которому посадили (не в тюрьму — статью не подобрали, а в дурдом) наивно и крепко верующего лидера молодых московских христиан.
У меня за годы советской власти выработалась хорошая привычка — как можно меньше знать: чтобы случайно под пытками не выдать. По телефону не болтать. И не разбрасывать бумажек.
Мой друг, будучи спрашиваемым о будущем, которое нас ждёт, отвечал с присущим ему реализмом: "Три по пять", — что означало: пять лет тюрьмы, пять — лагерей и пять — по рогам (то есть — ссылки с поражением в правах).
Коля Ахохов, напуганный предчувствием обыска, собрал все свои богословские рукописи и христианский самиздат в два больших чемодана и вышел на улицу ловить такси. Погрузился — тут подсели с боков ещё два пассажира и отвезли его прямо на Лубянку. Он выдал всех. Я встретил его через пару лет на выставке авангардистов. Он был весь седой — в свои тридцать с чем-то лет.
Ещё одного парня— организатора молитвенных групп — долго не могли поймать: не давался в руки. Тогда посадили за хранение и распространение антисоветской литературы (нашли при обыске "Архипелаг"). Сидел он где-то в Средней Азии, и там, в лагере, с ним каждый день беседовал марксист-политработник. Сошлись на христианском социализме. И подбил талантливый контрпропагандист тосковавшего по жене и детям узника, уговорил — выступить по радио. Тот выступил, покаялся, назвал какие-то имена и вышел на свободу. А через несколько месяцев выпустили из тюрем и лагерей всех диссидентов вообще — раскаянных и нераскаянных, просивших о помиловании и не просивших: время пришло горбачевское...
Протокол вести тётенька не захотела, а предложила написать на Котю Дудукина характеристику. Директор школы нерешительно взглянул на меня.
— А каков юридический статус этого документа? — поинтересовался я. — Это что — свидетельские показания?
— Нет.
— А что тогда? Донос?
— Вот что, — сказала следовательница. — Вы мне устраиваете перекрёстный допрос. Выйдите, пожалуйста.
Я вышел и минут сорок читал на подоконнике (что я читал? кажется, Набокова — "Bend Sinister"), а потом услышал из распахнутой двери соседнего кабинета раздражённый бас начальника:
— Как не хотят? Их ученик бил дубинкой милиционера... Да покажите им видеофильм!
Фильм мы смотрели все вместе. И, увидев на экране балбеса Котю, который, надев трофейный шлем и идиотически улыбаясь, размахивал отнятой у какого-то милиционера дубинкой, поняли, что школьной характеристики не миновать. Написали так называемую "объективку": что учится средне, увлекается поэзией...
"Никогда, ни в одном сне лет десять-пятнадцать назад мне не могло бы присниться, что я буду на следствии отмазывать коммуниста", — подумал я, когда мы вышли в ослепительно сияющий, чуть затенённый казённым зданием переулок.
А друг мне вечером сказал:
— Да все они — одна шайка.
Я сказал президенту Наполеоновского общества Олегу Соколову, что, по-моему, Бонапарт был просто-напросто разбойником. И пояснил свою позицию:
— Если человек не исследует явления природы, не пишет книги, не изготавливает скрипки, а рубит головы, меня это почему-то раздражает.
— Я глупа, — сказала Ирина. — Что-нибудь не то скажу католикам или протестантам — ещё обижу.
Это очень понравилось архиерею: и то, что она против католиков и протестантов, и — в особенности — что глупа.
Возможно, он спросил её и о Мене.
— А, этот, еврей-то? — небось переспросила Ирина.
Вопрос о её игуменстве был решён бесповоротно. И о вечном покровительстве Московской Патриархии.
Читать дальше