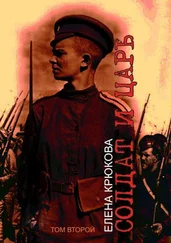Павел засовывал руку под тулуп и мелко крестился. Он отощал, но в плечах был еще крепок, кость его, могучая и широкая, держала, волокла его одряблые мышцы на себе. По-прежнему он любил глядеть на Сиянье. Та девочка, большеглазая, босая, одетая в странный мешок, которую он обнимал на берегу моря, навсегда исчезла. Ему мнилось — она приснилась ему. Привиделась. Как виденье. Может, он насмотрелся на Сиянье, и в северном марном воздухе ему мерещились бесы, принимающие обличье прелестных девиц. Знала бы Настенька. Да ведь и он мужик. И все они тут мужики. Плоть умерщвляется голодом, истязаньями, окрестными смертями. Мужик забывает о царении своем. Рано у них у всех отняли жизнь. При жизни уже нюхать смерть дают. Да что ж…
Бывало, ночь он спал плохо на нарах. Кряхтя, поднимался затемно, осторожно скрипнув дверью, отодвинув ногой прикрытую доской парашу, выходил из барака. Созерцал рассвет. Прищурясь, рассматривал солдата на вышке. Вон он, с ружьишком, бессонный. Тоже мученик, подневольный, как я. Кто ж нам все это придумал?! Кто же всю эту железную машину так хитро, так слаженно запустил?! Бог давно крикнул, гордо: «Да будет Свет!» И пришел Дьявол, и прорычал: «Да будет Тьма…» И стала великая Тьма на земле. А рассвет бьется, пробивается. Павел стоял на пороге барака, под наведенным дулом часового: что эта старая собака выгулять себя так раненько захотела?!.. бороду чтоб ветер покрутил, пурга алмазами обсыпала?!.. — и шептал обветренными губами, поднося красные пальцы ко рту: Богородица, Царица Небесная, Ты только, Матушка, одна меня не покинь. Пусть Настя замуж там выйдет, я ведь и счет годам потерял, сколько я здесь. Мы столько тулупов сшили, столько валенок сваляли, что можно не только всю нашу армию одеть, но и солдат китайского императора. Небо, солнце, вбитое белым гвоздем над горизонтом; весна. Скоро кончится полярная ночь. И солнце никогда не уйдет с небосклона. И Богородица всегда будет ходить по кругу радости. Не по кругу муки.
Вмерзни навек, солнце, в небеса. А наши маленькие жизни?! Они как землеройки, лемминги в тундре…
Павел Ефимыч плакал, глядя на солнце. Лучи летят, и им свободно. А он так и угаснет за колючей проволокой.
Я знаю — он не дождался конца срока. У него кончался срок, ему об этом сказали. И вся кровь бросилась ему в голову. И он сошел с ума от радости и тоски.
И он бежал, бежал из новоземельского лагеря, бежал за десять дней до освобождения, за десять дней до свободы, бежал глупо, безумно, сумасшедше, весь дрожа от ненависти, нетерпенья, ожидания, отчаянья. Он больше не мог. Он понял — надо разорвать крючьями пальцев сеть. Да, он рыба, и он попался в мережу. И он хлестнет хвостом. Он будет биться головой, резать плавниками, как ножами, узлы, веревки, сплетенья, ячеи. Он прорежет дыру. Он удерет. Только они его и видели.
Он подговорил напарника. Бежать с Острова! Это было безумие. Безумье чистой морской воды. Напарник был родом с Волги, как и он. Его это обрадовало. Свой, значит. Он был из Самары, напарник был из Нижнего. Они по-старому их называли, свои города. Их родные города назывались сейчас именами знаменитых людей, великих деятелей великой страны, и для их уха они звучали странно: Куйбышев, Горький. Прошлое народа люди, взявшие Власть, постарались выжечь. Все. До корня. До комля. Земля и история должны были быть чистыми и новыми. Новая Земля.
Смелый мужик, моложе Павла лет на двадцать, мрачно кивнул головой. Они все продумали. У них было два ножа — с такими в тайге ходят на зверя, — они сами наточили их, стащив с кухни, из раздатка с хлеборезки. У них был запас сухарей в мешках — они тщательно прятали их от товарищей, а еще были ломти сушеного мяса, немного, правда, но пользительно, ежели с голодухи в тундре откидывать ноги будешь. Это повар Феодосий удружил, сам монах; его на кухню определили — хорошо стряпал. Еще сушеная рыба — дары того же Феодосия. У них была лодка, затащенная ими в тайное место на берег, в укрытие между камней, и два весла; стояла весна, море ласково золотело под лучами, и, хорошо, без устали работая веслами, сменяя друг друга, можно было рискнуть переплыть холодную пучину — при условии, если тебя не догонят на катере, не подстрелят, если тебе дорогу не пересечет военный корабль. А на борт мирного сторожевика — возьмут. Пожалеют, возьмут. Только бы не напороться на тюремную баржу. Встреча с лагерной баржой — это пиши пропало. За побег — расстрел. «Лучше пулю в грудь, чем дальше тянуть проклятую лямку! — блеснув белками под мрачным скопищем смоляных кудрей, прохрипел Федор, напарник. — Смерть — это тоже свобода!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу