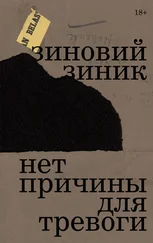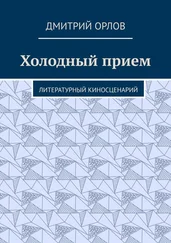Два мира — внутренний идеальный образ и город, возникший перед глазами, — на мгновение совместились, увиденные одновременно с некой третьей точки зрения, в определенном срезе светового луча. И в это мгновение кажется, что «мы б тогда перестали слоняться без толку, и при этом гадая, а свыше ли так суждено». Мгновение, и ощущение единства, примыслимого с увиденным, исчезает там, где «день сплошной невыносимый, от синевы швыряет зной». Ясность сменяется ослеплением: «По глазам полосует свечение — неужели я в жаркой стране» — и глаза ранят «светом каления» те самые «ясные обликом здания, что недавно светились во мне». Еще в московскую эпоху у Иоффе маячит в стихах «палимый урод», но солнце, возникающее как истина, постепенно обретает эпитет «беспощадный»: ведь лишь в европейской культуре солнце — это жизнь; люди Востока знают, что от солнца надо скрываться — в тень. Это все тот же ужас свершившейся истины, когда «слово заблужденья променял на истину молчанья», истину, окаменевающую на глазах, принявшую форму опаленной зноем стены, отделившей тебя от прошлого, ставшей стеной плача — но: «И плакать хочется, а слезы не идут». Стихи вдруг срываются на вопль, «на любовь разрываясь и жалость, обожание, нежность и боль» чуть не с есенинским подавленным всхлипом: «Вот и все, — лишь обняться осталось».
***
В этом, самом своем из не своих городов, мы были словистами — ловцами слов, а не славистами — от слова «слава»: мы едва начали печататься, скепсис в отношении печатного слова был так же заметен в нашем мышлении, как прививка от оспы на коже у плеча, и наши главные амбиции были выше по ранжиру: мы занимались божественным процессом называния вещей, придумыванием имен тому, что в русском языке до нас никак не называлось — от арабского чая с листочком свежей мяты или питы с фасолевой похлебкой в рабочей столовке при гаражах на улице Мамилла до деталей городской топографии по маршруту регулярной прогулки от мельницы Монтифиори до арабского кафе на улице Муристан в Старом городе. Араб-христианин готовил кофе с зернами корицы в джезве. Он, чуть ли не с колыбели зазубривший имперскую смену языков и наречий этого места как нечто само собой разумеющееся, заведомо знал, я думаю, кто мы такие и откуда; но когда он выносил поднос к нашему столику, мы обменивались с Иоффе незначащими фразами по-английски, инстинктивно придерживаясь языкового нейтралитета, считая, что израильская или русская речь может восприниматься как вызов. Потом вновь уходили в разговорное перелистывание писем из Москвы.
Синкопы муэдзина с Храмовой горы или перезвон колоколов с Голгофы служили этому «перелистыванию» странным фоном и были тем самым «поэтическим подвывихом» омертвевшей речи, о котором говорил в письмах к Иоффе Михаил Айзенберг. Пока Иоффе растолковывал мне нюансы дилемм иерусалимских героев в романах нобелевского лауреата Агнона, уже не способных вернуться к родному немецкому и одновременно потерявших вкус к новизне израильской речи, я в своих монологах той поры постоянно возвращался к «Александрийскому квартету» Лоренса Даррелла. Я купил это сочинение практически сразу после приезда в Иерусалим, поскольку наслышался о его романе и переписке с Генри Миллером еще в Москве. Иерусалимские ресторанчики, маленькие клубы и бары, странные литературные сборища напоминали мне все то, что описано у Даррелла. Это и тот факт, что история александрийских героев связана сюжетными интригами с Палестиной, позволяли моей фантазии приравнивать наше русско-иерусалимское общение с Иоффе к мифологии Александрии и культу поэта Кавафи. Москва в отношении Иерусалима становилась как бы Лондоном в отношении Александрии.
Обо всем этом я строчил в своей переписке с Москвой, не успевая ловить и передавать другим собеседникам многократное эхо написанного, услышанного и процитированного в двух городах одновременно. Иоффе, явно наслаждаясь этими перескоками между несколькими мирами — каждый со своим языком, — улыбался с детской завистью и недоверчивостью: он знал, что наше пребывание в Иерусалиме «без ближних и без дальних» отличается по своей светлой обреченности от интриг и любовных перипетий космополитической шушеры Александрии. В Иерусалиме все для него в тот период было и проще, и загадочней: «Есть обольстительная тайна: оливы — здесь, осины — там».
Потом, уже позже, со своим Ленинградом, со своей версией советской Атлантиды и иерусалимской Александрии, в наши беседы въехал рассказчик Марк Зайчик, и мне сейчас кажется, что ощущение уникальности от пребывания в Иерусалиме не понять тому, кто не сидел за покосившимся пластмассовым столиком у еще одного араба — Зейтуни, под стенами старого города с головокружительной панорамой Иерусалима в сторону Скопуса. Марк внес не только новое алкогольное меню с маринованным миндалем и жареными куриными сердцами в нашу жизнь за столиком, но и бравую способность преодолевать куриный испуг эстета перед шероховатой обнаженной обыденностью иерусалимского быта, вечно ждущего своего певца, своего едока, своего солдата.
Читать дальше
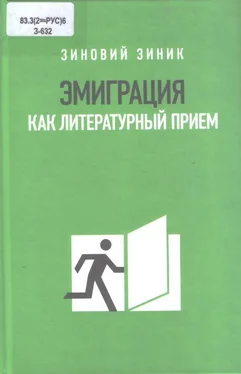

![Зиновий Зиник - Русская служба и другие истории [Сборник]](/books/26974/zinovij-zinik-russkaya-sluzhba-i-drugie-istorii-sbo-thumb.webp)