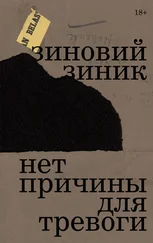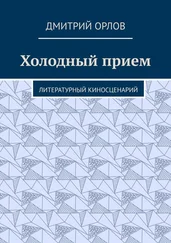Сомнительность этого освобождения, однако, в двуязычности эмигрантского мышления. Как ни крути, а советский (не простой русский, а именно советский) язык стал частью нашего сознания, и, скажем, даже самый яростный антисоветчик и диссидент, выпив рюмку водки в кругу друзей, бывает, и запоет во весь голос марш коммунистической молодежи: «Сегодня мы не на параде, мы к коммунизму на пути, в коммунистической бригаде с нами Ленин впереди!» В подобных ностальгических всплесках советизмов эмигрантский ум, конечно же, пародирует свое языковое прошлое; но память, тем не менее, купается в теплых чувствах, потому что память — аморальна и знает, что от советского языка он, эмигрант, никогда не избавится. Именно эта языковая двойственность мышления и превращает эмигранта в одержимого бесами, в призрак, то есть в потустороннее существо, неспособное окончательно удалиться на тот свет, в иностранную речь. В то время как советские боги отстаивают в его памяти коммунистические лозунги, со сталинской ненавистью относясь ко всему чуждому и иностранному в душе эмигранта, его космополитическая жилка пытается изничтожить весь советский мыслительный багаж, накопившийся в камере хранения памяти.
Отсюда ненависть эмигранта к самому себе, переносимая, порой, на других, — феномен, опять же, классического случая одержимости бесами. Отсюда же — помутнение языкового сознания, когда эмигрант начинает изъясняться на невразумительной тарабарщине — смеси всех языков его эмигрантского бытия. (Например, английское слово cash — наличные — превратилось в русскую «кашу», ассоциирующуюся с жаргонным «наваром».) Мат, перебравшись на Запад, начинает носить характер не столько богохульственный (поскольку вокруг уже нет советских парадных лозунгов для оплевывания), сколько, я бы сказал, загробный характер. Дело в том, что матерщина, в отличие от ординарной и логичной разговорной речи, непереводима на язык нового «потустороннего» бытия. Интеллигентная и вежливая речь по сути своей космополитична. Эмигрант же, потерявший советский паспорт, пытается отыскать некий неповторимый пароль, когда хочет быть узнанным своими соотечественниками. Это — поиск языковой «самобытности»; таковой и является матерщина. Стоит сойтись двум бывшим советским людям, и разговор густеет матом, хоть топор вешай. Это — самый простой маршрут возвращения в языковое отечество. Так призрак в готическом романе подтверждает свою личность, называя детали, известные лишь родственникам и близким. Призрак, так сказать, приблатняется под живых: говорит «их матом». Порой, этот «матерный» талисман становится единственным способом распознать бывшего соотечественника.
Однажды я присутствовал при телефонном разговоре Юза Алешковского с редакцией газеты «Новое Русское Слово». Его речь, как всегда, изобиловала блестящими матерными неологизмами. Дело происходило в книжном магазине «Руссика» в Нью-Йорке, и меж книжных полок, сужая круги вокруг Алешковского, бродил незнакомец. По виду его можно было принять или за сотрудника ЦРУ, или за советского человека за границей: костюм чиновничьего покроя, стрижка под ежик и ни с кем не разговаривает. Когда Алешковский бросил, наконец, трубку, разочаровавшись в языковой восприимчивости «Нового Русского Слова», незнакомец обратился к Юзу со скромной почтительностью: «Вы писатель?» Юз подтвердил это предположение гордым кивком. «Я так и думал», сказал незнакомец, «вы употребляете так много новых русских слов!» Юз оторопел: советский, на вид, человек говорил без малейшего иностранного акцента. «Каких таких новых слов?!» недоумевал Алешковский. «Я разговаривал с мудилами из "Нового Русского Слова"», сказал он. «Ну вот, например, мудилы. Я слышал о поэме "Лука Мудищев". Но что такое "мудилы"? Это слово ругательное или ласкательное?» без тени юмора допытывался незнакомец. Профессионализм Алешковского взял верх над его недоумением: «Мудила — с окончанием на А — есть ругательное, в то время как мудило — с окончанием на О — есть ласкательное», с педагогической доскональностью разъяснял Алешковский. Незнакомец с благодарностью занес эти сведения в записную книжку и, пожав руку Алешковскому, признался: «Я редко бываю в Нью-Йорке и каждый раз возвращаюсь к себе в Буэнос-Айрес обогащенным. Вы знаете, русская община в Аргентине катастрофически отстала от современной русской культуры».
5
Эмигрант, поставивший себя вне рамок советской морали, напоминает Раскольникова, потому что теряет привычный критерий, позволяющий различать объективную ложь и субъективную истину. Как и герой Достоевского, эмигрант может вновь обрести душевное равновесие, лишь пройдя через земное наказание. Кровавое наказание, божественная кара, которую ждет, на которую подсознательно надеется эмигрант, настигает его как формальная развязка, с неожиданностью и немотивированностью донжуановской статуи Командора — в смертельном рукопожатии: выпрыгивает отравленным зонтиком, мчащимся грузовиком или призраком старого друга, разоблачающего твой эмигрантский блеф. Последний аспект — страх разоблачения — связан с расколом в душе эмигранта до и после отъезда. Те, кто остались там, в прошлом, никогда не станут свидетелями здешнего настоящего этого эмигранта; а свидетели этого настоящего здесь никогда не станут свидетелями запутанной изнанки прошлой жизни.
Читать дальше
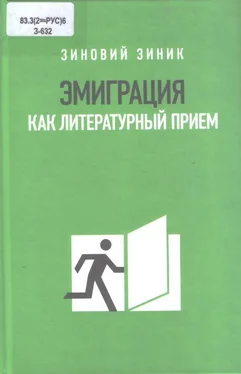

![Зиновий Зиник - Русская служба и другие истории [Сборник]](/books/26974/zinovij-zinik-russkaya-sluzhba-i-drugie-istorii-sbo-thumb.webp)