Я спросил ее, в чем дело, она пробормотала что-то невразумительное, бессвязные обрывки фраз, среди которых я уловил только имя: Розенталь. Этого оказалось достаточно, я поспешил в мужское отделение вместе с медсестрой, которая то шла за мной следом, то неслась впереди, но за всю дорогу так и не проронила ни слова, будто не хотела объяснять мне что-либо.
Дверь в комнату Розенталя была закрыта: у медсестры хватило ума позаботиться об этом, чтобы никто не смог заглянуть внутрь. И это похвально, поскольку такая предосторожность, ты сам скоро поймешь, была совсем не лишней, хотя из соседних комнат еще не доносилось ни шороха и не слышно было, чтобы кто-то проснулся.
Мне стоит больших усилий описать тебе все то, что я увидел, открыв дверь. Первое, что я почувствовал, когда вошел в комнату, — холод. Меня накрыла волна обжигающего ледяного воздуха. И сразу бросилось в глаза распахнутое настежь окно: на подоконник намело снега, пол был припорошен мелкой белой крупой. Кресло развернуто к окну, худые руки Розенталя вцепились в подлокотники. За спинкой не видно было остального, и, только подойдя ближе, я догадался, что случилось. В кресле сидел Розенталь — вернее, не сидел и даже не съежился, свернувшись калачиком. Он свободно раскинулся, и в его расслабленной, непринужденной позе было нечто зловещее, я предположил худшее, к тому же он был голый, совершенно голый, словно хотел, чтобы мороз ужалил каждый сантиметр его иссохшего, щуплого тела.
Мгновенье я стоял как вкопанный, я был потрясен. Медсестра тем временем закрыла окно. Розенталь смотрел с кресла пустым взглядом, на его бледном одутловатом лице застыло выражение безысходной кротости, к которому я привык за те долгие годы, что он провел в больнице. Склонившись над ним, я попытался нащупать пульс, приложил ухо к его впалой груди с торчащими ребрами, но не услышал ровным счетом ничего, даже слабого биения.
Я прикрыл его одеялом и попросил медсестру позвать на помощь — скорее чтобы соблюсти формальности, чем надеясь на спасение. Все было слишком ясно. Я представил себе старика Розенталя, увидел, как он накануне вечером, дождавшись, пока закончится последний обход и все стихнет, перетаскивает на середину комнаты кресло. Осторожно, стараясь не наделать шума, открывает окно, снимает пижаму и садится напротив темно-лилового проема, в котором уже начинают вальсировать первые снежинки, полный решимости не двигаться с места, пока холод не отнимет у него жизнь. Пожалуй, прецеденты такого самоубийства можно перечесть по пальцам; впрочем, прецедентов наверняка и не отыщется, да, кроме того, смерть эта была слишком уж страшная, и я чуть было не начал укорять себя в том, что не помог Розенталю уйти из жизни быстро и безболезненно. Если б вместо того, чтобы с дотошностью отмерять положенную дозу снотворного, я случайно оставил на тумбочке целый пузырек, он бы, по крайней мере, не так страдал и ему не пришлось бы ночь напролет, в одиночку, вести отчаянную борьбу, призывая к себе в союзники ангела смерти.
Надеюсь, ты не сочтешь все эти размышления возмутительными и дерзкими. Мне, например, они сейчас кажутся совершенно естественными, а возмущает и приводит в бешенство как раз несостоятельность моих собственных измышлений и науки вообще, ставшая очевидной, едва я стал свидетелем мучений Розенталя. Мне стыдно за каждое свое молчание, за каждую двусмысленную, недоговоренную фразу, что я произнес в его присутствии, и за педантичные, скрупулезные комментарии, которые я писал в его карточке по окончании приема; мне стыдно перед этим окоченевшим телом даже за свой спокойный сон и за неспособность надолго сохранять четкое, твердое осознание допущенной ошибки.
Оставшись в комнате с ним наедине, я подошел к креслу, откинул одеяло, снова проделал весь ритуал — и, разумеется, не услышал даже слабого биения в замершем сердце, с синих, плотно сжатых губ не слетело ни вздоха. Дожидаясь санитаров, которые перенесут его ко мне в приемную (но зачем? с какой целью?), я попытался сделать ему массаж сердца и искусственное дыхание: расстелил одеяло возле кресла и с легкостью переложил его невесомое тело на пол. Мы, врачи, и тебе это прекрасно известно, слишком привычны к наготе, особенно к беззащитной, вопиющей, абсолютно голой наготе стариков, на которую не наброшено покрывало изящества или физической крепости, так что я не испытывал страха или брезгливой неловкости, управляясь с телом Розенталя. Но зато когда я смотрел на номер, въевшийся в его запястье, какой-то почтительный трепет, смешанный со стыдом, тут же заставлял меня отвести взгляд. Он всегда старался спрятать эту метку, избегал показывать ее и носил рубашки и пижамы с длинным рукавом, не забывая застегнуть манжеты, а когда нужно было измерить давление, непременно протягивал мне другую руку и смущенно улыбался, словно просил прощения. Да, тебе это может показаться странным, но я и вправду никогда прежде не видел того номера — клейма, которым смерть пометила плоть мертвого и которое Розенталь, видимо, чувствовал на своей коже постоянно: когда ел, спал, даже когда разговаривал со мной о музыке и сидел в звучном, наполненном образами полумраке зимнего сада. Как он сказал тогда? «Единственно верный набор знаков, самое точное время, застывшее на циферблате мира». Если память мне не изменяет, он говорил именно так, ну а чтобы проверить это, достаточно заглянуть в мои бессмысленные, никому не нужные записи. Мы здесь записываем все, любезный друг, не составляют исключения и этапы этого спуска в преисподнюю: в историю болезни кропотливо, мелочно, хладнокровно заносится каждый шаг.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

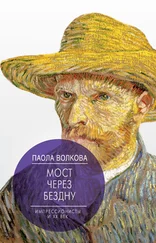







![Владислав Шпильман - Пианист [litres]](/books/396951/vladislav-shpilman-pianist-litres-thumb.webp)


