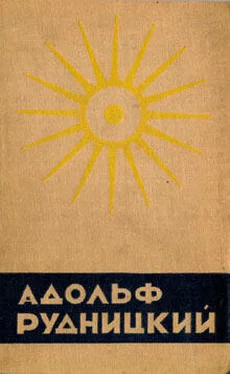В новой комнате я любил запираться во второй половине дня, любил смотреть на улицу через единственный квадратик стекла, ибо остальную часть окна я заколотил фанерой. Прежде чем залезть под одеяло, я запасался турецкой халвой и шоколадом. В эту пору дня я любил также, предварительно заперев дверь, разглядывать свои сокровища, пересыпать из одной руки в другую, рассматривать и пересчитывать. Мои сокровища состояли из нескольких горстей золотых монет, из золота в литых и дутых изделиях, из нескольких драгоценных камней. Я приобрел для себя также нитку прекрасно подобранного жемчуга, которую носил на шее; мне нравилось, разговаривая с людьми, нащупывать ее под пиджаком. И так вот, сочетая золото мечты с настоящим золотом, бывший переводчик Райнера Марии любил минутку подремать.
В прекрасный мартовский день, проснувшись в свой обычный послеобеденный час, я внезапно увидел перед собой Лопека — должно быть, он только что вошел. Я быстро накрыл газетой сокровища, лежавшие на стуле рядом с халвой. Появление Лопека было тем более удивительным, что он никогда без меня не выходил из подвала. Я сперва проверял, нет ли кого-нибудь на лестнице, и, прежде чем вывести его из каморки, пускал в ход целую систему сигнализации. Впрочем, днем он не высовывал носа из подвала: обычно я выводил его ненадолго поздней ночью, а потом провожал назад. Он говорил тогда: «Фараон удовлетворял свои потребности на рассвете, а я поздней ночью». Вид у него был ужасный. Впервые за долгое время я смотрел на него при свете дня. Он постарел, осунулся.
— Послушай, я больше не могу, — плаксиво заговорил он, присев на кровати.
— Лопек, что ты?
— Послушай, я действительно больше не выдержу.
— Лопек, — крикнул я, — что с тобой? Ты забываешь, какие настали времена для честных людей, ведь все мы теперь отчаянно страдаем. Разве ты знаешь, как теперь люди страдают? Сидишь в подвале с курами и ничего не соображаешь. Никто больше не может. Покажи мне человека, который еще может. Но каждый должен и старается как-то продержаться. Лопек, не будь бабой!
Я высказал это с таким жаром, что он на мгновение смешался.
— Во что превратилась моя квартира…
— Какая квартира? — удивился я.
— Моя квартира. Как она выглядит! Как она выглядит! Американские бюро ты сжег в печке! Топишь мебелью!
— Опомнись! Люси тебе не жаль, а американские бюро жаль. Мир горит, весь мир пошел на топливо, а тебе жаль бюро! Люди гибнут, как мухи, а ты думаешь о квартире, о стульях! Что ты за человек!
Он смущенно смотрел на меня; обычно я позволял ему отвести душу, но теперь я был раздражен, потому что он застал меня в момент, когда я нежил мои сокровища, — я прикрыл их газетой, но его взгляд сам собой падал туда. Хотя Лопек сохранил свою мощную тушу, лицо его теперь сморщилось, жалкое личико торчало над складками шеи — бедное, отощавшее, землистое, а глаза у него гноились, глаза старой курицы.
— Ты среди бела дня показался на лестнице, не знаю, что теперь будет. Может, тебя кто-нибудь увидел?
— Мне уже все равно!
— Только, пожалуйста, не говори: «Мне уже все равно»! Ты сам знаешь, что это неправда!
Он смотрел в сторону, но я был убежден, что если он даже и не смотрит на мои сокровища, то все-таки видит их. У меня на совести были грешки в отношении Лопека, и это, естественно, еще больше меня раздражало. По законам подпольной торговли Брах считался его источником, и с каждой сделки с Брахом я обязан был выколачивать долю и Лопеку, но как раз в этот период забрали Люсю и Лопек потерял всякий интерес к торговле, к ударам, к заработку. Он впал в апатию и, чтобы прокормиться, время от времени просил меня продать какие-нибудь домашние вещи. Называл меня могильщиком династии Клаар, но о торговле больше не помышлял.
— Я не вернусь к курам! — заявил он. — На ночь останусь наверху.
— Очень хорошо. Но послушай: ты ведь не прописан, не берешь в общине хлебных карточек, нигде не взят на учет… Не знаю, как теперь будет. Собственно, получается так, словно тебя нет в живых.
— Ну, так я им не понравлюсь, когда они придут, и они меня не возьмут… Здесь я тоже не намерен оставаться. Я хочу уехать.
— Куда? В Варшаву?
— Поеду в Варшаву.
— Там у тебя есть кто-нибудь?
— Нет, но здесь я больше не выдержу. Помоги мне, Зенек, переговори с Мацёнговой.
— Гм… С тобой будет нелегко. В поезде каждый прицепится. У тебя такой живот.
— Не такой уж у меня живот, я ведь похудел.
— Тебе кажется, будто ты похудел. У тебя живот величиной с два корца картошки.
Читать дальше