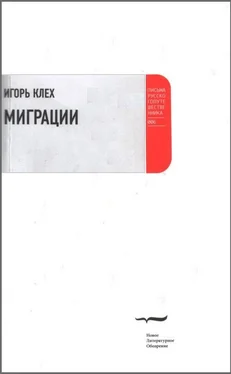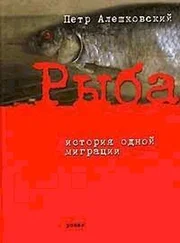Отель, в котором я прожил пять дней, находился на углу 76-й улицы и Бродвея, исхоженного и изъезженного мной в длину, будто палуба авианосца, зовущегося Манхэттен. Только ноги могут дать представление о действительной протяженности этого скального острова в междуречье Гудзона, который на карте выглядит небольшим, а с самолета игрушечным. Я успел полюбить эту единственную диагональную, всегда тенистую и расслабленную улицу, в щелях которой неожиданно застряло так много неба, облаков и солнечного света, словно в окаменевшем великанском хвойном лесу без подроста, — главную артерию города, который никогда не спит. Пресытившись поездками и встречами, последние часы перед полетом я решил провести в Централ-парке. Моя 76-я выводила прямо к нему через несколько кварталов.
Сладкое ничегонеделание перед последним рывком придавало остроту прощанию с Америкой. Американцы не раз добивались от меня отчета о впечатлении от запоздалой первой встречи с их страной. Было в этом что-то подростковое. Может быть, спокойный изучающий взгляд, неожиданный в иностранце, их интриговал.
— Впечатление от какой из Америк? — отвечал я обычно. — Я насчитал их уже с полдюжины, но, думаю, их намного больше.
Мои прежние представления об Америке и американцах не претерпели существенных изменений, но очень важно было их проверить — осадить на базу личного опыта, потому что нигде так много и досконально не знают обо всем на свете, как сидя безвылазно в Череповце или Огайо (и столица этого штата, с университетом вдвое больше Московского, кажется, лучшее место на свете, чтобы повеситься). Неожиданным оказалось заочное уважение, которое я успел почувствовать, к России и русским — причем не важно, была то симпатия, антипатия или подчеркнутое безразличие. Америку населяют сегодня уже не те люди, что ее строили, но то же можно сказать и о России. Эх, Америка, все четыре колеса! Наличие внутреннего простора, мальчишеская мегаломания, отсутствие нелепого стремления к совершенству, — дает молоко, вертится, и ладно! — в американцах привлекали меня именно те черты, которые людьми малодушными порицаются.
Я шагал уже по последнему кварталу перед Централ-парком, вертя головой и приостанавливаясь. Смыкающиеся кроны старых деревьев над тротуаром, стильные фасады конца XIX века, крошечные палисадники казались перенесенными откуда-то из Центральной Европы. Иллюзию нарушали только приямки, с ведущими вниз ступеньками, перед подъездами домов да американский почтальон в форме, катящий перед собой трехколесную тележку с переметными сумками, похожую издали на беременную козу. К бровке приткнулся фургон с подъемником, и рабочие в спецовках не спеша принялись загружать через открытое окно в одну из квартир какую-то мебель, пружинные матрасы. Жаль было расставаться с этой малолюдной тихой улицей, но меня уже призывно манил Централ-парк, оказавшийся огромным, как весь Манхэттен в моем представлении — до того, как я его измерил.
Перейдя дорогу, я присел на скамейку, спиной к парку, выкурить сигарету и передохнуть, потому что тело — от воспаленных коленных суставов до бунтующих почек — постанывало и скулило уже которую неделю: «Забери ты меня из этой твоей Америки, увези, домой хочу!..» Мои ступни сквозь толстые подошвы ощущали дрожь земли от проносящихся под мостовой, с юга на север и обратно, поездов нью-йоркской подземки. Что Манхэттен никакой не остров, а Левиафан, выброшенный на мелководье, прорезанный шахтами во всех направлениях и нашпигованный коммуникациями (какой грунт не разъехался бы под весом такого количества воткнутых в него башен?!), я догадался на его южной оконечности, в носовой части, куда меня отвезли встречать закат, — такой нью-йоркский ритуал. Отвезли и бросили — мой приятель больше часа кружил по всей округе, не находя свободного места для парковки. Обычное дело в Нью-Йорке. Пройдя через сквер, я вышел на набережную к причалу. Солнце уже садилось, и большинство скамеек и парапетов было занято созерцателями, местными и приезжими. Подходили и отчаливали речные трамваи, чертили палевое небо самолеты, далекий противоположный берег был застроен так же густо, как этот, но то был уже Нью-Джерси. Крохотная статуя Свободы посреди воды, чуть не на горизонте, походила на фишку, которую и пальцами не возьмешь. Но сюда, к южной оконечности Манхэттена, докатывалось могучее дыхание океана, и в такт ему скрежетал гулкий сварной понтон, насаженный петлями на вбитые в дно реки трубы, обреченный постанывать и порыкивать, как цепной пес, сторожащий добро хозяина. Это утробное ворчание и плеск океанской волны оживляли маринистский пейзаж, свидетельствуя, что Манхэттен — город-корабль на приколе, приросший кормой к черному Бронксу, удерживаемый с бортов перекинутыми мостами и прорытыми подводными тоннелями, сотнями пирсов под ребра, а за кольцо в носу — якорными цепями, город-Гулливер в путах лилипутов. В двух кварталах отсюда еще недавно высились симметричные надстройки Всемирного Торгового Центра, словно песчаные башни на пляже, смытые набежавшей волной. Надменные чикагцы говорят, что этого не случилось бы, будь у них внутри стальные «скелетоны», как в Чикаго, на родине небоскребов — на берегу одного из Великих американских озер. Но одно дело жить на берегу озера, пусть даже великого, и другое — в зоне океанского прибоя. Вот и Централ-парк — какой это, к черту, парк, длиной четырнадцать километров?! По периметру он окружен сомкнутым строем высоток, глядящих на него, как стадо исполинов мелового периода на детскую площадку во дворе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу