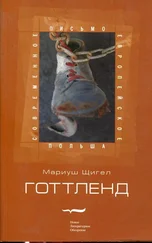— Ты никогда не думал, где ляжешь, где тебя закопают?
Немного дальше — густой кустарник и могила неизвестного зэка. Тонина идея: каменный холмик, насыпанный руками детей и внуков жертв СЛОНа. В камнях, как и в словах, живут наши предки, их духи. Это еще саамам было известно… Мы петляем между могилами, листья шелестят, сквозь них просвечивает солнце, тут православный крест, там красная звезда и на каждой могиле стопка. Приходи, присядь, выпей…
В коридоре снова шум. Бабули гурьбой выходят. Замерзли. Кто-то из них смачно ругает начальство и весь свет. Остальные одобрительно покашливают. Пришел пьяненький Петя-послушник. Читать псалмы. (Монахи отказались — самоубийца, мол.) Начал тихо, mormorando, словно про себя, потом громче, монотонно, покачиваясь в такт. Я кутаюсь в тулуп. Дрожит пламя свечей. Псалом бежит, словно дорога вдоль морского берега: «Человек, яко трава — дние его, яко цвет сельный, тако отцветет…»
Мы дошли до мыса Лабиринтов. Присаживаемся на камни, закуриваем.
— Если хочешь отсюда уехать, не заглядывай в саамские лабиринты — пропадешь. Вот как я…
Плещет море, кричат чайки. Идем дальше. По твердому песку, увязая в кучах водорослей. Анфельция, фокус, ламинария. Ни с того ни с сего Тоня принимается рассказывать о себе. Сумбурно. Прадедушка — сосланный на Урал поляк (кажется, Пшегодский), отец — алкаш и бард. Она его обожала. А мать ненавидела, с детства, все мечтала ей письку ножницами вырезать. Дома папа появлялся редко, обычно поддатый. Она снимала с него ботинки, помогала раздеться, выслушивала невразумительные стихи, повести, запутанные, как сама жизнь, фантастические истории. Потом мать покончила с собой, отец пропал. Дальше тетки, интернат, школа, мальчики. Первая водка, первые стихи. Отыскала отца — тот догорал в Р. Спившийся, отчаявшийся, так и умер… она замолчала. Берег вился, пропадая в заливах, словно ее судьба. Из миража вдруг выглянули Заяцкие. Сверкнуло солнце — аж глазам больно. Мельница продолжала, перескочив через несколько сюжетов. На Соловки приехала двадцать лет назад. С мужем и Алешкой. Сашка, младший, уже здесь родился. Тоня сразу, с первого взгляда, почувствовала — ее земля. Она тут останется. Муж не выдержал, забрал старшего и уехал. Потом несколько раз возвращался, наконец развод и полный разрыв. Сначала было тяжело одной, особенно зимой: бесконечная темнота, бесконечная тоска. Низкое небо давит, ветры выдувают душу. В конце концов привыкла, запила. Работала в музее, занималась СЛОНом. Тогда это не приветствовалось, мода на лагеря была еще впереди. Но выставку они сделали — первую в Советском Союзе, и еще карту зон для «Мемориала», и фильм с Голдовской — «Власть соловецкая» (Тоня читала в нем, за кадром, письма зэков, найденные на Секирной горе, между кирпичами). Летом водила экскурсии, зимой писала стихи. Сашка рос, год следовал за годом, как мужики в постели — один запомнится, другой позабудется. Наконец поняла, что музей — не для нее, там лишь память бальзамируют да пытаются на туристах нажиться. Она начала выпускать «Соловецкий вестник» — как раз и времена соответствующие настали. Небоженко дал денег, кто-то по блату устроил типографию, и пошло-поехало — как при СЛОНе, у Соловков снова была собственная газета. Газета, оживившая старое и породившая новое: на одной полосе стихи зэков и Юли, репортажи времен СЛОНа и современные зарисовки поселка, мертвецы бок о бок с живыми. Работала, будто в трансе. И все больше пила, потому что без водки здесь долго не протянешь — кошмары задушат. Стены плачут, грибы вырастают на трупах, а пейзаж не соответствует жизни, словно кто-то перепутал декорации. Летом еще полбеды — туристы, гости, шум. Но зимой, когда соловчане остаются один на один с Соловками, тут можно сойти с ума. С другой стороны, это пора особая, для избранных — на заснеженной пустоши нет-нет да и встретишь самое себя.
— Приезжай, Мар, на Острова зимой…
Петя споткнулся на середине псалма, уснул… Стало вдруг так тихо, что слышно, как на море потрескивает и скрипит лед. Уже пол-второго. За окном полная луна, мир словно глазурью облит, где поблескивает, где тенями вытягивается. Где-то я читал, что самоеды называют январские ночи «белыми»: луна тогда висит низко, словно фонарь, а снег и лед рассеивают серебристое свечение…
— …зимой здесь можно увидеть изнанку мира. Павел Флоренский писал, что слой реальности на Севере тоньше, чем где бы то ни было, будто свитер с протертыми локтями — тот свет проглядывает. Увидишь северное сияние — и почувствуешь на затылке дыхание космоса, а в тишине белой ночи услышишь… — она не закончила, словно побоялась сказать лишнее.
Читать дальше